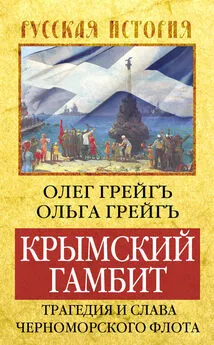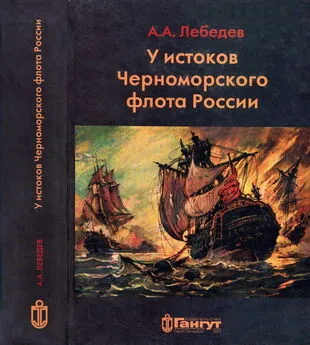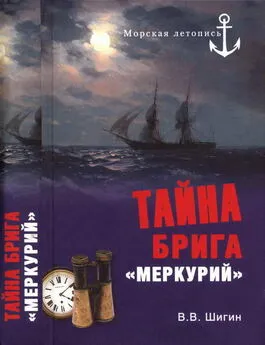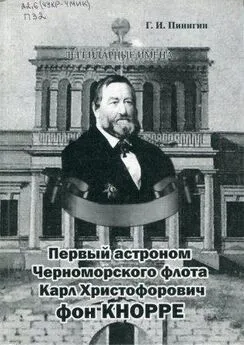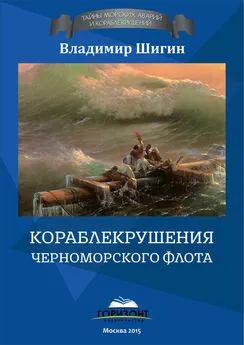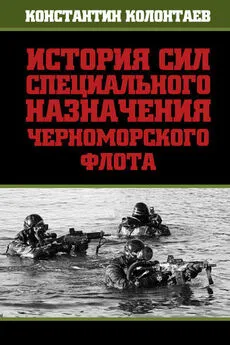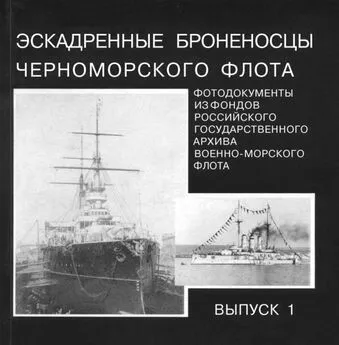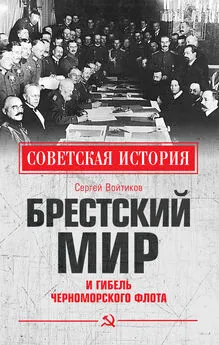Олег Грейгъ - Крымский гамбит. Трагедия и слава Черноморского флота
- Название:Крымский гамбит. Трагедия и слава Черноморского флота
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0733-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Грейгъ - Крымский гамбит. Трагедия и слава Черноморского флота краткое содержание
История Крыма уходит в глубину веков, здесь переплелись судьбы многих цивилизаций. Крым не раз становился ареной ожесточенных битв. Самые кровопролитные войны XIX столетия в России даже получили название Крымских. В 1853 г. разгорелась очередная русско-турецкая война. На стороне Турции выступили Англия и Франция, недовольные усилением роли России в этом регионе. В итоге крымские города были разграблены, а Севастополь разрушен.
Кровавым был и период Гражданской войны в Крыму (1918–1920 гг.). В борьбе за власть шли ожесточенные сражения между Белой и Красной армиями, а террор превзошел все мыслимые пределы разума. В 1920 году Крым стал частью Советской России, а спустя год была создана Крымская АССР в составе РСФСР.
В годы Великой Отечественной войны через Крымский полуостров не раз прокатывался огненный вал фронта. Решающую роль в нашей победе тогда сыграли моряки, воюя не только на море, но и на суше. В годы развала СССР Черноморский флот стал камнем преткновения, был разделен, что вызвало тенденцию упадка. Но уже сегодня — как свидетельствует история — и Крым, и Черноморский флот стоят на пороге глобальных перемен к лучшему.
Новая книга известных авторов Олега и Ольги Грейгъ рассказывает о самых ярких страницах жизни полуострова и выдающихся людях, создававших Русскую Историю Крыма.
Крымский гамбит. Трагедия и слава Черноморского флота - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Грустно упоминать, однако и первенец Русского флота корабль «Орел» был сожжен в 1670 году еврейским психопатом Райзманом.
С гибелью Черноморского флота у советской власти осталось на Балтике 7 линкоров, 9 крейсеров, 17 эсминцев, 45 миноносцев, 30 подлодок, 5 канлодок, 23 минных и сетьевых заградителя, 110 сторожевых кораблей и катеров, 89 тральщиков, 16 ледоколов, 66 вспомогательных судов, 65 лоцмейстерских и гидрографических судов, 6 госпитальных судов и 70 транспортов.
Всего же в канун захвата большевистской партией власти в России Русский флот насчитывал 591 боевой корабль (надводных кораблей и подводных лодок), 549 вспомогательных судов с общим количеством 175.528 матросов, около 6 тысяч офицеров, 151 адмирала, 118 генералов.
При этом в состав ЧФ входило 150 боевых кораблей и 203 вспомогательных судна.
С гибели ЧФ началась гибель всего Русского флота.
К сожалению, ни историки, ни писатели до сих пор не сказали нам истинную причину гибели Русской эскадры…
Трагедия Черноморского флота была предопределена уже самим воплощением изуверских планов международного Ордена по уничтожению Российской Империи. И в 40-е годы XX века лишь продолжался этот бесконечный процесс…
Глава 4
Террор в Крыму, как «образец самого небывалого, зловещего деспотизма»
Евпатория. Патетика гибели у подножия храма…
Говорить и писать, что сталинский террор взялся сам по себе, от зловредной натуры последнего, как и обвинять в бедах советского народа его одного — полнейшая глупость. Прежде Сталина были другие, не менее значимые и опасные преступники, терроризирующие несчастное население огромного пространства Планеты. И не будь всех этих извергов рода человеческого, обуянных садизмом и комплексом власти, уверовавших в свою вседозволенность, не было бы никогда ни Сталина, ни Гитлера, ни даже нынешних миротворческих овечек — американских фюреров, взрывающих и разрывающих страны и диктующих свою волю во имя установления «демократии» для поглощения чужих природных богатств. Имена тех, кто были прежде Иосифа Сталина, общеизвестны, их имена все еще начертаны на партийных скрижалях, а памятники им украшают улицы и площади постсоветских городов и городишек. Как скромный пример в деле причастности советского божка Ленина к массовым казням безвинных людей, можно привести отрывок из его письма к народному комиссару юстиции Д. И. Курскому, датированного 1922 годом: «Суд не должен запрещать террор, но ему необходимо сформулировать мотивы, скрывающиеся за ним, узаконить его в качестве принципа, совершенно просто, без притворства и прикрас. Необходимо дать этому как можно более широкую формулировку».
Но давайте от общих рассуждений перейдем к частностям. Ведь ничто так не располагает к восприятию правды, как художественный рассказ человека, между прочим, уроженца Крыма. Вот что он свидетельствовал.
Летом 1956 года я был в пионерском лагере, размещавшемся в одной из средних школ небольшого крымского города Евпатория, рядом с мореходной школой. В том детском возрасте некоторые события запоминаются особенно четко, тогда как большинство их все-таки сглаживаются со временем. Мне же из того быстротечного периода ярко запомнились три факта.
Первым было невообразимое мальчишечье удовольствие устроиться на подоконнике класса, в котором мы ютились, чтобы наблюдать за несколькими гидросамолетами, стоявшими у причала в Каркинитском заливе. Пилоты и механики с утра прогревали двигатели, и я с большим удовольствием безотрывно смотрел, как они взлетали, а потом садились на колышущуюся воду.
Другим сильным впечатлением была встреча, — по сути пропагадистская агитка для несмышленых пионеров-красногалстучников. К нам в школу привели матроса с броненосца «Потемкин», на котором, как мы все знали из уроков истории, было знаменитое восстание в 1905 году. Честно говоря, сама встреча с ним не оставила особых впечатлений, зато ее результатом явилось фото на память. На котором так и остались сидеть подле человека лет семидесяти, одетого в форму матроса советского флота, два школьника, усаженные для снимка по правую и по левую руку героя. Это фото отчего-то навсегда запало мне в память. Кстати, еще в 1955 году на Черноморском флоте в Севастополе, Одессе и других городах страны отмечалось 50-летие восстания на броненосце «Потемкин» и оставшуюся небольшую группу матросов (возвратившихся из Румынии, где в 1905-м был разоружен броненосец) наградили орденами Красного знамени.
И третье впечатление из той детско-лагерной жизни. Именно оно сохранилось в памяти четче и резче других.
Если выйти из школы во внутренний двор, то в глухом замкнутом пространстве помимо школьной мастерской имелся длинный рукомойник, где мы по утрам умывались, а вечерами выполняли строгий наказ мыть ноги. В мастерской там работал очень старый, весь какой-то согбенный, крючковатый мужчина с поблекшим взглядом. Он никогда не сидел без дела и постоянно что-то мастерил. Однажды я увидел, как он открыл люк сточной ямы около рукомойника и запустил в зловонную жижу руку. Я — то ли оттого, что был большим чистюлей, то ли был слишком любопытным, что, впрочем, не мешало одно другому, — спросил: зачем вы это делаете? Оказалось, там забился проход и он его таким способом чистил. Не желая общаться с мальчишкой, он прогнал меня словами: иди к себе в отряд. Но я не смог бросить своего занятия и еще несколько раз выходил во внутренний двор посмотреть, как он хлопочет. А так как прочистка и поломка не были устранены за раз, то его работа и мои наблюдения продолжались несколько дней, за которые я ему надоел хуже горькой редьки. Каждый раз он прогонял назойливого мальчишку, пока не бросил в сердцах:
— Уйди от меня, а то тебе будет плохо, и тебя могут исключить из пионеров.
Как ни странно, но уже на следующий день меня отчитала наша пионервожатая, запретив общаться и даже просто подходить к работнику.
Но такова уж моя натура по жизни; я все равно улучал время и прибегал понаблюдать за работой странного старика. Как-то проходя мимо меня, он спросил: когда ты уезжаешь из лагеря? И когда я назвал дату, он вдруг объявил, что вот в тот день мы с ним и увидимся.
В пионерлагере я отдыхал со своим дружком Аликом, ставшим мне, приемному байструку, родственником; его мать Маруся и должна была приехать за нами в конце смены из близлежащего городка Саки. Вдень отъезда все дети томились в ожидании автобуса, на котором приедут родители, и каждый находил какое-то незначительное занятие вроде перекладывания сумок с одеждой или вялой игры в мяч. А я, следуя внутреннему желанию, пошел во внутренний двор.
Завидев меня, человек, казавшийся мне дряхлым стариком, сразу приступил к рассказу:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: