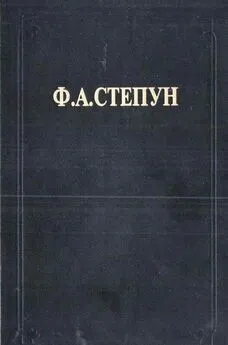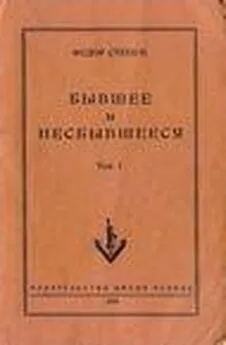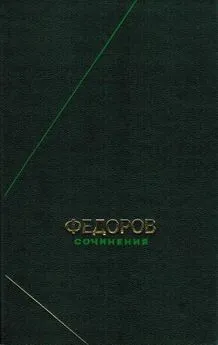Федор Степун - Сочинения
- Название:Сочинения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Степун - Сочинения краткое содержание
Степун Ф.А. Сочинения. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. - 1000 с.
Сборник содержит философские, культурно-исторические и публицистические работы выдающегося русского философа, творившего (говоря его же словами) в эпоху «безумия разума», - Федора Августовича Степуна (1884-1965). Ф.А. Степун - один из основателей знаменитого журнала «Логос», вторую половину жизни проведший в эмиграции. Философ-неокантианец волею истории оказался в центре философских и политических катаклизмов. Понимая российскую катастрофу как часть общеевропейской, он пытался понять пути выхода из этого глобального кризиса. Большевизм и фашизм он трактовал как победу иррационализма. Основная его проблема в 20-30-е годы это поиск метафизических оснований демократии. Эти основания он увидел в Божественном утверждении свободного человека как религиозного смысла истории, в христианстве, понятом им в духе рационализма. Современники ставили его в ряд с такими западными философами как Пауль Тиллих, Мартин Бубер, Романо Гвардини и др. Книга избранных философско-публицистических сочинений мыслителя на его родине в таком объеме издается впервые.
В тексте пропущены страницы 494 и 495 оригинального издания.
Сочинения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И так всю ночь, всю ночь, до скучного, бледного пасмурного рассвета.
Нет, не понравилась мне латвийская столица Рига!
До границы еще десять часов; не сидеть же целый день в шпионской компании и смотреть на их блудливую воркотню под крепом. Встал я и пошел искать какого-нибудь другого пристанища. В соседнем же вагоне оказалось купе, занятое всего только одним человеком, показавшимся мне очень симпатичным. Большой, молодой, очень хорошо одетый, свежий, румяный, чистый, будто только что всего нянюшка губкой вымыла, очень породистый и всё-таки несколько простоватый, совсем не столичный хлыщ, а скорее премированный симментальский телёнок...
Я к нему: свободны ли места? Места свободны, но он имеет право на отдельное купе. Его фамилия... Я не ошибся: фамилия оказалась действительно очень древней, очень громкой и очень феодальной.
Начинается разговор, и через пятнадцать минут мы с женой уже сидим в его купе и разговариваем о России. Это был первый разговор, который после многих лет войны и революции пришлось мне вести с немцем, да ещё офицером одного из очень старинных германских полков.
Хотя я уже в Москве слышал о той перемене во взглядах на Россию, которая произошла в Германии, я был всё же очень поражен. В Германии всегда были философы и художники, внимательно и с любовью присматривавшиеся к непонятной России. Помню, как один известный профессор философии говорил мне, что, когда он в семинарии имеет дело с русскими студентами, он всегда чувствует себя неуверенным, так как заранее уверен, что рано или поздно начнется публичный допрос об абсолютном. Помню и изречение менее известного приват-доцента, что первое впечатление от русских людей — впечатление гениальности, второе — недоброкачественности, а последнее — непонятности.
Учась в Германии, я дружественным немцам много раз «исполнительно» читал русские вещи. Читал сцену в Мокром [136] сцену в Мокром — сцена из «Братьев Карамазовых» Достоевского.
, читал многое из «Серебряного голубя» [137] «Серебряный голубь» (1910) — роман Андрея Белого.
, и всегда меня слушали с громадным напряжением и безусловным пониманием. Как-то раз я после лекции моего друга, типично русского дореволюционного студента, а впоследствии расстрелянного в Венгрии коммуниста Левинэ, читал от имени немецкого «общества нравственной культуры» в католическом Аугсбурге, в воскресенье, во время мессы в каком-то грандиозном «Варьете», в котором одновременно происходила дрессировка моржей, при цилиндре и белых перчатках «Дружки» Максима Горького. Кому всё это могло быть нужным, я до сих пор не понимаю. Но видно, что в Аугсбурге были какие-то коллекционеры русских впечатлений. Во всяком случае какие-то немцы сидели и слушали, а потом много меня расспрашивали: «Von dem augenscheinlich ganz sonderbaren Land» [138] Von dem augenscheinlich ganz sonderbaren Land — об, очевидно, весьма странной стране (нем.).
. Всё это было, было уже и до войны некоторое слабое знание Достоевского и Толстого, Патетической симфонии Чайковского и Московского художественного театра. Но всё это было в очень немногих кругах, деловая же и официальная Германия нас всё-таки так же мало уважала, как мы её мало любили. Офицерство же, с которым я много сталкивался, после японской войны нас просто-напросто презирало. Помню, как в 1907 г. ехал я с очень образованным офицером генерального штаба тоже по направлению к Берлину. Боже, с какою самоуверенностью рассуждал он о неизбежности столкновения с Россией и как предчувствовал победу германского, целого, организующего начала над мистической, бесформенной, женственной стихией России. Мой собеседник 23-го года был офицером совсем другой формации. Если бы в его речах слышался только интерес к России, только высокая оценка её своеобразия, это было бы вполне понятным. Русские события последних лет навсегда, конечно, останутся одной из самых интересных глав истории 20-го века. Мудрено ли, что этот интерес уже сейчас остро ощущается всеми теми, что смотрят на неё со стороны. Ведь если нам трудно ощущать значительность свершающихся событий, потому что они — наши бесконечные муки, то этого препятствия для иностранцев нет; они уже сейчас находятся в счастливом положении наших потомков, которые, конечно, много глубже нас переживут всю значительность наших дней, дней, которые для них не будут нашими тяжёлыми буднями, а будут их праздничными, творческими часами, их гениальными книгами.
Но мой собеседник, не философ и не поэт, а офицер и начинающий дипломат, ощущал Россию совсем не только интересной и оригинальной народной душой, но большой фактической силой, великой державой, фактором европейской жизни, с которым всем остальным странам Европы если не сегодня, то завтра придется очень и очень считаться.
После мрачных рижских ощущений, после только что пережитых чувств стыда и вины, я никак не мог понять настроения моего собеседника, которое отнюдь не звучало только его личным и случайным мнением...
Какая же мы в европейских глазах можем быть сила, когда мы проиграли войну и подписали позорнейший Брестский мир, когда в несколько лет промотали свою страну до последней нитки, когда терпим издевательства большевиков над всеми национальными святынями, когда все вразброд взываем об иностранной помощи и не умеем сами себе помочь!..
Однако чем больше длился наш разговор, тем все яснее становилось в чем, собственно, дело.
Да, мы проиграли войну, но у нас были блестящие победы. «Если бы вы имели нашу организацию, — говорил мне мой собеседник, — вы были бы много сильнее нас». Наших солдат немцы «стадами» брали в плен, но в плену они все-таки рассмотрели, что бородатые русские мужики совсем не простая скотинка, что они «очень сметливы, очень хитры, хорошо поют, а в весёлый час по-азиатски ловки на работу».
Несмотря на всё уважение к Толстому, Европа этих русских мужиков до войны и до революции никак себе не представляла. Народ русский был для неё ещё не вочеловечен, он сливался с бескрайностью русской равнины, с непроходимостью русских лесов, с топью русских болот... был какою-то непонятною, безликою этнографической базой «блистательного европейского Петербурга» и «азиатского курьёза Москвы». Но вот грянула солдатская революция, невероятная по размаху, головокружительная по темпу; понеслись события последних лет, обнаруживая в каждом новом этапе новые и новые стороны русского народного бытия. С первых же дней революции вопрос России стал осью европейской жизни. До падения Временного правительства в центре европейского интереса стоял вопрос о боеспособности русской армии, после его падения — вопрос о заразительности коммунизма. Но и в первый период, и во второй Россия была надеждой одних и ужасом других. Росли надежды, рос и ужас. Россия же в европейском сознании росла и вместе с растущими надеждами, и вместе с растущим ужасом. Росла — и выросла. Столкнувшись после десятилетнего перерыва с первым европейцем, я это ясно почувствовал. Я почувствовал не только повышенный интерес к себе как к русскому человеку, который я вместе с моржами вызывал и в Аугсбурге, но и уважение как к русскому гражданину; эффект для меня совершенно неожиданный.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: