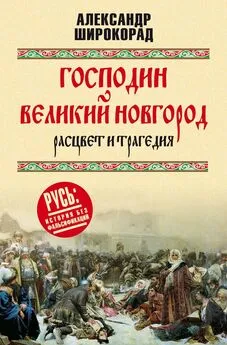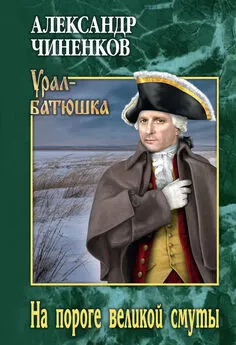Александр Широкорад - Казачество в Великой Смуте
- Название:Казачество в Великой Смуте
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Яуза
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-243914
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Широкорад - Казачество в Великой Смуте краткое содержание
При всем обилии книг по истории казачества одна из тем до сих пор остается «белым пятном». Это — роль казаков в Великой Смуте конца XVI — начала XVII века, то есть в единственный в истории казачества период когда оно играло ключевую роль в судьбе России.
Смутное время — наиболее мифологизированная часть отечественной истории. При каждом новом правителе чиновники от истории предлагают народу очередную версию событий. Не стало исключением и наше время.
В данной книге нарушаются все эти табу и стереотипы, в ней рассказывается о казачестве как об одной из главных движущих сил Смуты.
Откуда взялись донские, запорожские и волжские казаки и почему они приняли участие в Смуте? Как появились новые «воровские» казаки? Боролся ли Болотников против феодального строя? Был ли Тушинский вор казачьим царем? Какую роль казаки сыграли в избрании на царство Михаила Романова и кто на самом деле убил Ивана Сусанина?
Казачество в Великой Смуте - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава 8. Казаки с Болотниковым и без него
Ценой больших усилий царю Василию удалось укрепить свою власть в столице. Совсем иначе дела складывались в провинции. Жители юго-западных городов — Путивля, Чернигова, Кром и других — наотрез отказались присягать новому царю. Там правили воеводы — сторонники Лжедмитрия.
По всей стране распространялись слухи, что Димитрий не был убит в Москве, а скрылся и вот-вот объявится. В какой-то мере распространению таких слухов способствовали действия царя Василия.
Так, глупости и противоречия царской грамоты, разосланной по всей стране с объяснением причин переворота 17 мая 1605 г. и мотивировками воцарения Шуйского вызывали серьезные подозрения как у воевод, так и у простых горожан.
В день переворота трупы Отрепьева и Басманова сторонники Шуйского отволокли на Лобное место, раздели донага, да еще на Отрепьева надели страшную маску, в которой тот собирался быть на маскараде. Никто не подумал, что народ, привыкший видеть царя в роскошных одеяниях, не будет ассоциировать его с изуродованным трупом, да еще с закрытым маской лицом. Сразу же начались разговоры, что убитый совсем не похож на царя Димитрия. Через три дня Басманова похоронили в церкви Николы Мокрого, а Отрепьева — в убогом доме за Серпуховскими воротами. Но по Москве поползли разные слухи: говорили, что сильные холода стоят благодаря волшебству расстриги, что над его могилой творятся чудеса. Тогда труп самозванца вырыли, сожгли в деревне Котлы и, смешав пепел с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда он пришел.
В итоге значительная часть южных городов России отказалась присягать царю Василию. Верными «царю Димитрию Ивановичу» остались Рязань, Карачев, Ливны, Орёл, Венёв, Михайлов, Волхов, Ряжск, Кашира, Алексин, Льгов, Делилов и Епифань.
Самым же неприятным для Василия Шуйского было то, что в украинных крепостях по приказу появившегося позже Лжедмитрия II были собраны отряды дворян и казаков, предназначавшиеся для похода в Крым.
Так, большой отряд дворян и казаков дислоцировался в крепости Елец. Там движение против царя Василия возглавил сотник, сын боярский Истома Пашков. Судя по всему, Истома — это прозвище, а настоящее имя — Филипп Иванович. Происхождение свое мелкий дворянин (у самого Истомы было только два села) вел от польского шляхтича Григория Пашкевича, поступившего на службу к Ивану Грозному. Отряду Пашкова вскоре удалось овладеть Тулой, Венёвым и Каширой.
Значительную часть Рязанщины взяли под контроль воевода Григорий Сунбулов и дворянин Прокопий Ляпунов с братьями. Доминировали в их войсках дворяне, но и казаков там хватало (от пятой части до четверти всех ратников).
Лжедмитрий I дал льготы касимовскому хану Урус-Мухаммеду. По этой, а может, по другим причинам хан и его Городецкие казаки (касимовские татары) тоже не признали царя Василия.
Очаги восстания вспыхнули по всей стране. Так, на далеком Тереке атаман волжских казаков, уже знакомый нам Федор Волдырь, выдвинул нового самозванца — царевича Петра. На самом деле это был бродяга Илья, сын муромской проститутки Ульяны, которая ушла от мужа и прижила Илью от посадского человека Ивана Коровина. Подросший Илья поначалу торговал яблоками у нижегородского купца Грозильникова. Позже это занятие Илье надоело, и он подался в Казань на Волгу, а затем на Терек. На Тереке Илейке-Петру удалось собрать большой отряд гулящих казаков. Самозванец рассказал им фантастическую историю, будто Ирина Годунова, жена царя Федора Иоанновича, была беременна, но очень боялась своего брата, Бориса Годунова, который уже метил на царство. И вот, родив в 1592 г. сына, она подменила его девочкой, чтобы коварный Борис не извел младенца. Сына же она отдала на воспитание дьяку Андрею Щелкалову и князю Мстиславскому. Царевич рос у жены Щелкалова полтора года, затем его отдали Григорию Васильевичу Годунову, тоже посвященному в тайну. У него царевич прожил два года, а потом его перевезли в монастырь под Владимиром, где игумен научил его грамоте. Когда царевич освоил грамоту, игумен написал об его успехах Григорию Васильевичу Годунову, считая его отцом мальчика. Но Григорий Годунов к тому времени уже умер, а его родные отписали, что «у родича нашего не было сына, не знаем, откуда взялся этот мальчик». Заинтригованные родные обратились за разъяснениями к Борису Годунову, и Борис написал игумену, чтобы тот прислал мальчика к нему. Царевича повезли в Москву, но по дороге он, почувствовав недоброе, сбежал, какое-то время жил у князя Барятинского, а затем ушел к казакам, где и объявил о себе.
Целью Федора Болдыря было просто собрать под знамена самозванца побольше казаков и отправиться вместе с ними вверх по Волге грабить купеческие караваны и небольшие городки. Первоначально отряд Болдыря состоял из 300 казаков, а к весне, по сведениям Маржерета, их число достигло 4 тысяч. Это явное преувеличение, но тысячи две было.
О появлении самозванца донесли царю Димитрию. Реакция его была совершенно необъяснима. В конце апреля 1606 г. царь послал к казакам дворянина Третьяка Юрлова с грамотой, где говорилось, что если называющий себя Петром и в самом деле царевич, то царь ждет его у себя в Москве, а если «он чувствует за собой, что он не царевич», то пусть лучше быстрее убирается из Московского государства. К грамоте прилагалась подорожная, где предписывалось выдавать «царевичу Петру» корм на всем пути до Москвы.
«Царевич Петр» встретил Юрлова с грамотой в Самаре и двинулся дальше, говоря всем, что он едет в Москву к своему дяде царю. В Свияжске «царевич Петр» узнал о смерти Димитрия и воцарении Василия Шуйского. Теперь Петра в Москве однозначно ждала плаха, а то и кол. Поэтому «царевич» со своей ватагой повернул обратно. Обманом казаки проскочили Казань и отправились вниз по Волге-матушке, грабя встреченные суда и прибрежные городки.
17 июня 1606 г. началось восстание в Астрахани, которое возглавил… местный воевода князь Иван Дмитриевич Хворостин. Стрельцы и казаки убили дьяка Афанасия Карпова и какого-то Третьяка Кашкарова, которые пытались привести их к присяге новому царю Василию Шуйскому.
По одной из версий, еще Лжедмитрий I решил сместить воеводу Хворостина и заменить его Ф.И. Шереметевым. Вот воевода и взбунтовался. Между тем Шереметев с отрядом стрельцов подошел к Астрахани, однако взять ее не смог и два года простоял в 18 верстах от города на острове Балчике. Шуйский же подтвердил назначение Шереметева астраханским воеводой. В октябре 1607 г. Шереметев отошел в Царицын, а далее вообще был отозван с низовых городов.
За несколько месяцев царствования Лжедмитрия резко возросло число нападений волжских казаков на купеческие караваны. 29 декабря 1606 г. в Кракове послы царя Василия, обличая самозванца перед панами, помимо прочего заявили: «Многих торговых людей, которые шли с Москвы и многих городов в Асторохань, а из Асторохани шли в судех вверх к Козани, побивали и пограбили, и многие товары и денги и несчетную казну взяли — больши десяти сот тысяч золотых польских, а русским числом больши 300 000 рублев» [58].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
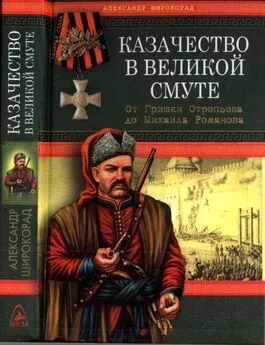

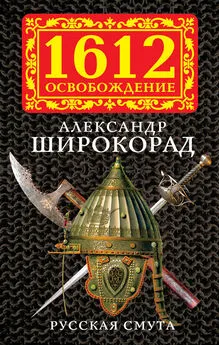

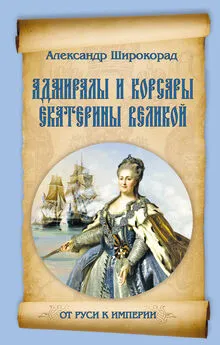
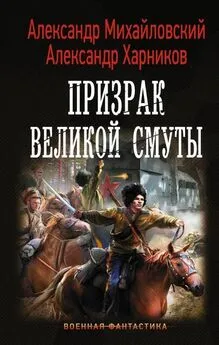
![Александр Михайловский - Призрак Великой Смуты [авторский текст]](/books/1095021/aleksandr-mihajlovskij-prizrak-velikoj-smuty-avto.webp)