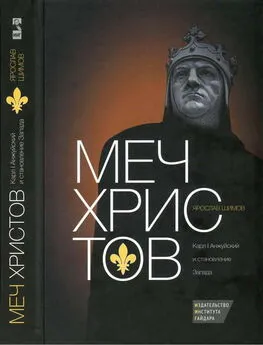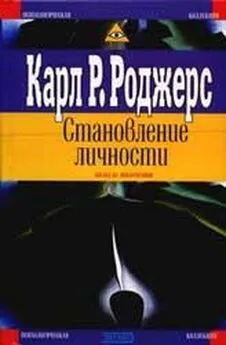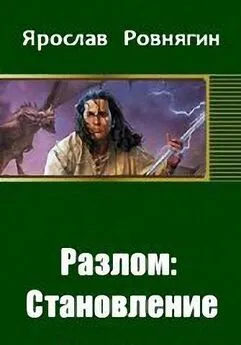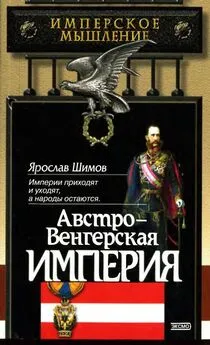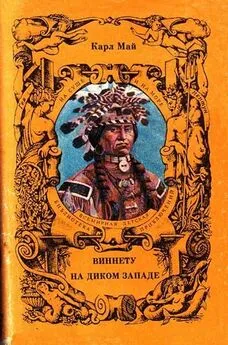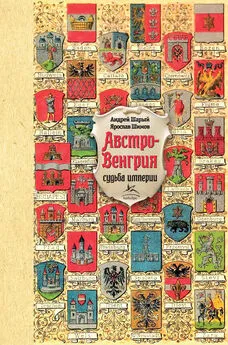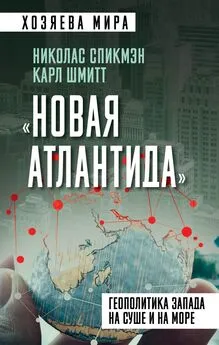Ярослав Шимов - Меч Христов. Карл I Анжуйский и становление Запада
- Название:Меч Христов. Карл I Анжуйский и становление Запада
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Института Гайдара
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-93255-415-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ярослав Шимов - Меч Христов. Карл I Анжуйский и становление Запада краткое содержание
Книга посвящена жизни и делам Карла I, европейского государственного деятеля и полководца XIII века, короля Неаполя и Сицилии (1266-1285), представителя французской династии Капетингов, младшего брата Людовика Святого.
Карл I, игравший большую роль в целом ряде важнейших событий европейской средневековой истории, своей деятельностью завершил эпоху «высокого» Средневековья и способствовал формированию государственно-политических и культурно-цивилизационных границ западного мира, многие из которых сохранились по сей день и оказывают влияние на современные европейские процессы.
Книга написана с опорой на большое количество источников и исторической литературы, значительная часть которых до сих пор не переводилась на русский язык. Адресована всем, кто интересуется историей Европы.
Меч Христов. Карл I Анжуйский и становление Запада - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впрочем, даже в этой ситуации картина не была столь однозначной. Хотя до начала мая восстание распространилось по всему острову, не везде оно имело столь кровавые последствия, как в Палермо. Как пишет Салимбене де Адам, «жители города Мессины не учинили такой жестокости по отношению к французам, но отняли у них оружие и имущество и отправили их к господину Карлу, который в эти дни ушел прочь, боясь потерять Неаполь» {376} . (Возможно, милосердие, проявленное мессинцами, было связано с тем, что этот город пользовался определенной благосклонностью Карла, предоставившего Мессине ряд торговых привилегий; тем не менее и она присоединилась к восстанию.) Вице-юстициар западной Сицилии, Гийом де Порселе, живший в городе Калатафими, пользовался уважением местного населения, а потому его, не причинив никакого вреда, доставили в Палермо, откуда вместе с семьей ему было позволено отплыть в Прованс. В городе Сперлинга французский гарнизон не тронули и позволили уйти на север {377} .
В целом «отношения между [анжуйскими] солдатами и местным населением были куда более сложными, по меньшей мере до начала восстания, чем можно было бы судить по лозунгу «Смерть французам!»… В еще большей мере, чем к Сицилии, это относилось к югу Италии, где отношение к анжуйскому правлению было куда менее враждебным, а в ряде мест и вполне позитивным… Тем не менее общую картину не следует искажать; средний французский солдат [в Regno] проводил большую часть времени в походах или в казарме, и у него было довольно мало возможностей для братания [с местным населением]» {378} . Несколько лучшим было отношение коренных жителей Сицилии к провансальцам, которые воспринимались ими как более близкие по языку и культуре. Впрочем, разделение на «свой — чужой» проходило не только по этнической линии. «Сицилийская вечерня» была в первую очередь социально-политическим конфликтом, принявшим форму национально-освободительного восстания или ксенофобского бунта — определение тут, как часто бывает, зависит от угла зрения. От гнева мятежников пострадали не только чужаки, но и те коренные сицилийцы, которые служили анжуйскому режиму. Так, влиятельная семья де Ризи из Мессины, лояльная Карлу, была почти полностью перебита; Россо, другой фамилии из того же города, повезло больше: поначалу поддержав короля, ее представители вовремя перешли на сторону восставших, а потому уцелели.
Как бы то ни было, в течение нескольких недель власть Карла I была свергнута на всем острове. Наместник короля на Сицилии, Герберт Орлеанский, потерпел поражение от восставших; эскадра, посланная королем к Палермо, была разбита подоспевшим мессинским флотом. Все эти события заставили Карла принять крайне болезненное для него решение — отложить поход на Константинополь, последние приготовления к которому весной 1282 года уже завершались. Собрав все свои сухопутные и морские силы, Карл выступил к Мессине. На помощь к нему спешили отряды флорентийских гвельфов и подкрепления из Франции во главе с двумя племянниками Карла — Пьером, графом Алансонским, младшим сыном Людовика IX, и Робертом II д'Артуа, сыном Роберта-старшего, погибшего некогда в Египте. (Роберт II стал одним из самых верных и наиболее способных сторонников Карла Анжуйского; позднее, после смерти Карла, он некоторое время был фактическим регентом Regno.) Войско короля высадилось в окрестностях Мессины 25 июля.
Дальнейшие события превратились для Карла в сплошной кошмар. Защитники города отбили несколько штурмов. Осада городов была особым видом военного искусства — и, судя по всему, сицилийский король был знаком с ним в куда меньшей мере, чем с тактикой битв на открытом пространстве, принесших ему полководческую славу. 14 сентября Карл едва не погиб, когда огромные камни, пущенные оборонявшимися с помощью катапульт, размещенных на городских стенах, упали туда, где находился король со свитой, убив нескольких французских рыцарей. Мессина держалась, перекрывая Карлу путь вглубь острова. Королевское войско теснилось на прибрежном плацдарме, где высадилось в конце июля. Боевой дух рыцарей и солдат короля быстро падал. Карл решил прибегнуть к переговорам и пойти на некоторые уступки.
Однако его попытки договориться с Алаймо Лентини, сицилийским гибеллином-заговорщиком, которого жители Мессины избрали своим предводителем (капитаном), успеха не принесли, хотя король обещал мессинцам амнистию, требуя выдать лишь нескольких горожан для примерного наказания. Характерно, что не возымел действия и эдикт Карла, обнародованный еще до похода против мятежников — 10 июня. Король вводил запрет для чиновников заниматься какими-либо поборами и реквизициями, выходящими за рамки установленных короной; он запрещал содержать людей под стражей без достаточных на то законных оснований, требовал прекращения практики «подарков» и преподношений королевским назначенцам от городов и сел, находящихся под их надзором, и т.д. {379} Но было поздно: Сицилия не доверяла королю, который долгие годы словно не помнил о ее существовании и нуждах, а теперь явился вновь покорять ее — огнем, мечом и обещаниями. Кроме того, память о 12-летней давности расправе над Аугустой не способствовала укреплению веры сицилийцев в посулы Карла. Возможно, дело было и в том, что «примирительное» распоряжение короля «не предполагало фундаментального изменения системы. Он обвинял своих чиновников в том, что они не соответствовали тем высоким требованиям, которые он к ним предъявлял. Он вновь подчеркивал те принципы, в соответствии с которыми собирался править, и требовал полного повиновения» {380} .
Характерно, что руководители восстания поначалу стремились действовать в рамках феодального права. Поскольку верховным сюзереном Regno оставался папа, они направили к нему делегацию, прося признать остров федерацией городских коммун и сельских общин, находящейся в вассальной зависимости от Святого престола. Однако Мартин IV, верный союзу с Карлом, благодаря которому он стал папой, отверг просьбу мятежников. Более того, специальной буллой они были отлучены от церкви. Отвергнутые Римом, сицилийцы обратились к тому, с кем уже давно связывала надежды гибеллинская партия, — Педро III Арагонскому. Сделать это было не так уж легко для них: «Сицилийцы поначалу не желали заменить правление одного иноземного государя властью другого. Но они не могли бороться в одиночку. В конце концов, Констанция, королева Арагонская, происходила из рода Гогенштауфенов, будучи последней наследницей этой великой династии… Соображения как благоразумия, так законности советовали им принять Педро и Констанцию в качестве своих короля и королевы» {381} . [180]
Король Педро к лету 1282 года находился в полной боевой готовности — настолько полной, что его сосед, Филипп III Французский, по наущению своего дяди Карла заинтересовался тем, для чего, собственно, ара-гонцами собран столь солидный флот. Слово хронисту Салимбене: «…Король Франции отправил к нему официальных посланцев… сказать ему, что сам Педро не должен никоим образом идти ни против короля Карла, ни против его сына [181]и не вторгаться в его королевство, потому что если он причинит какую-либо обиду самому королю Карлу или его наследнику, то пусть он поразмыслит о собственной безопасности. Каковой Педро вышеназванным посланцам учтиво и благосклонно ответил, что он совершенно не желает причинять какую бы то ни было обиду господину королю Карлу или его наследнику, а намеревается идти за море против вероломных сарацин, и всю землю, которую он сможет приобрести и захватить, он передаст и подарит своему сыну, который собирается вступить в брак [182]с… дочерью сына короля Карла» {382} .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: