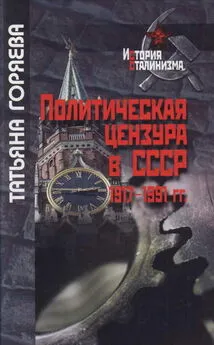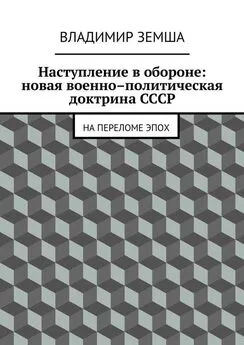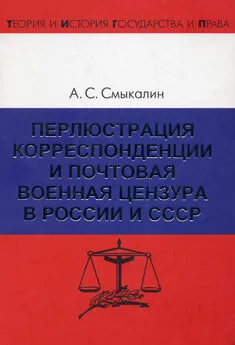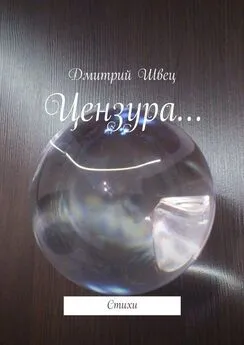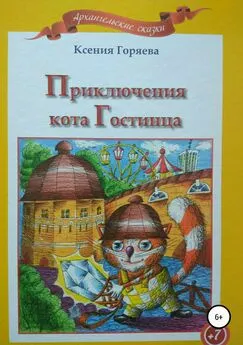Т. Горяева - Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг.
- Название:Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РОССПЭН
- Год:2009
- Город:М.
- ISBN:978-5-8243-1179-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Т. Горяева - Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. краткое содержание
Объектом данного монографического исследования является сформированная в СССР система всеобъемлющей политической цензуры, «всецензуры» советского типа. В книге показано многообразие форм и методов идеологического и политического контроля, который осуществлялся партийно-государственными органами и институтами цензуры в период с 1917 по 1991 г. Наряду с подавляющими функциями цензуры прямого воздействия — решения о запретах, цензорские вмешательства, отклоненные рукописи и пр., и с использованием всего арсенала идеологического руководства и монополизация всех средств управления, — кадровая, издательская, гонорарная политика, — продемонстрирована и ответная реакция творческой интеллигенции, поведенческие особенности которой выработались в ответ на «дамоклов меч» цензуры. Новаторство исследования заключается и в том, что параллельно с фактами противодействия и сопротивления представлена фактография, отражающая конформизм и компромисс с властью, проявившиеся в период огосударствления различных сфер культурной и общественной жизни: ликвидация литературных группировок и организация Союза советских писателей СССР, создание государственных СМИ и др.
Актуальность книги несомненна и основывается, прежде всего, на острой потребности осмысления нынешнего состояния культуры и ее роли в современном информационном и эстетическом пространстве. Проблемы, поднимаемые и решаемые автором, ставят данное исследование в ряд наиболее востребованных самыми различными категориями читательской аудитории в связи с становлением в России гражданского общества и выработкой механизмов взаимоотношения власти и общества.
Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Между тем весь ход истории цивилизации свидетельствует о том, что власть, и государственная, и церковная, осуществляла свои охранительно-карательные функции прежде всего в отношении духовной сферы жизни общества, существенной частью которой является культура. Пиршество массовой культуры, исход интеллигенции во власть и бизнес, относительный кризис общекультурного национального процесса в XX в. — все эти объективные в какой-то мере явления породили неожиданные и, на первый взгляд, пугающие высказывания не только «рядовых граждан», но и отдельных творческих деятелей о причинах кризиса отечественной культуры, которые, как им кажется, заключаются в том числе в утрате института цензуры. Можно было бы успокоиться, пожалев «потерянное поколение рабов», грустящее о потере своих цепей и оказавшееся несостоятельным в условиях личной и творческой свободы, если бы не вечные вопросы, возникавшие не только у современников, но и у многих наших предшественников, задумывавшихся над проблемой соотношения и взаимодействия между культурой и властью.
Для того, чтобы объяснить парадоксальность характера этого взаимодействия, который состоит в том, что высокая степень проявления подавляющих функций государства чаще всего вызывала исключительную интеллектуальную и творческую активность общественной мысли, как бы провоцировала появление наиболее заметных произведений, создавая тем самым питательную среду для развития культуры, некоторые пытались отделять понятия «культура» и «цивилизация». Однако все это не что иное, как попытка практику жизни объяснить старыми способами, поскольку даже на уровне лингвистического анализа «цивилизация» и «культура» одно и то же, а именно — эволюция людей к более высокой организации и более высокой нравственности. В таком случае надо говорить скорее о наличии этической и неэтической культуры и этической и неэтической цивилизации {226} 226 Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992. С. 65–66.
.
Культура как важнейший результат человеческого разума и интеллекта является наиболее характерным отражением уровня развития человечества. Во все времена культура испытывала на себе жесткое давление власти, преодоление которого и было высшим проявлением творческого начала и эволюции мысли. Этические, эстетические и идеологические нормы общества создавали тот «водораздел», на котором возник институт цензуры, разделивший культуру на официальную и неофициальную, подпольную. При этом, по наблюдению Ю.М. Лотмана, неофициальная культура, как запретный плод, была исключительно привлекательна для аудитории, оказывая на нее не менее, а в некоторых случаях и большее воздействие {227} 227 Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Таллинн, 1992. Т. 1.
.
Культура представляет собой некое сооружение, «этажи» которого тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, питая и обогащая этическую, стилистическую и жанровую основу творчества. Культуру как всеобъемлющее социальное явление можно сравнить с айсбергом, в котором официально признанная культура составляет самую незначительную видимую его часть, тогда как неофициальная, подпольная, и, что естественно, большая скрыта под водой. Так было до недавнего прошлого, когда «этажи» культуры довольно четко распределялись между «литературными генералами», мастерами эзоповского языка, авторами «произведений для ящиков письменного стола», культурой русского зарубежья, «тамиздатом» и «самиздатом», рок культурой и авторской песней — магнитофонной культурой, тюремно-лагерной и примитивной культурой и т. д. Именно в недрах нонконформистской культуры вызревали бурные «перестроечные» процессы конца 1980-х гг., под влиянием которых произошло разрушение цензурно-идеологической стены и крушение существовавшего многоэтажного здания «советской культуры». То, что ранее было скрыто и труднодоступно, стало откровением и сенсацией для большинства, но, к сожалению, одновременно приобрело и другие качества, определяющие новую конъюнктуру и обусловившие «возведение» новых «этажей» культуры. Философские и психологические основы творчества немыслимы без личных и общественных свобод автора, вместе с тем парадигмой культурного и художественного процесса является, как уже говорилось, почти аксиоматичная ситуация, когда в условиях наибольшего политического гнета культура достигала невероятных высот, а периоды относительной свободы порождали в обществе культурный упадок. Все это можно попытаться объяснить, если обратиться к трудам этнографов и антропологов, рассматривающих культуру как систему выживания (процесс осмысления себя и мира), присущую только человеку. При этом чем сильнее выражены неблагоприятные условия выживания, тем более высокого уровня развития достигает культура. И если для культуры материальной питательной средой являются экстремальные природные и ландшафтные условия, то для культуры духовной — политико-идеологические.
Однако такую культуру, возникающую в результате борьбы между темным и светлым, тайным и явным, следует считать культурой «детского» периода вызревания цивилизации, признаком ее недоразвитости. Естественным, а значит, и неизбежным является период «взросления» и превращения культуры больного общества в «нормальную». А то, что общество, не имеющее реальных правовых гарантий гласности, больно, не вызывает сомнения. И в основе этой болезни, по мнению Д. Фурмана, «лежит страх. В основе любого сокрытия информации, или, попросту, лжи, лежит страх, за себя эгоистический (чтобы не потерять не по праву занимаемое положение) или за других (например, когда правда скрывается от тяжело больного человека)» {228} 228 Фурман Д. Наш путь к нормальной культуре // Иного не дано: Судьбы перестройки. Вглядываясь в прошлое. Возвращение к будущему/Под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1988. С. 570–571.
. И в том, и в другом случае причиной является страх обнародования информации, способной разрушить мнимую стабильность. Мнимую и иллюзорную потому, что общество не может существовать действительно стабильно без гласности, ибо любая попытка сообщить обществу правду «вдруг», может вызвать шок и разрушить эту стабильность.
Понять и объяснить происходящее в нашей стране стремится А. Битов в «Попытке утопии»: «Что-то кончилось, но ведь что-то и началось. И что кончилось, мы знаем, а что началось — не так уж. Мы-то уж знали чего бояться: Сталина, ЧК, ЦК, КПСС, КГБ, МПС, ГКЧП. Эти скрипучие аббревиатуры, которые уже не слова человеческие, суть синонимы и страха нечеловеческого. И мир зато знал, чего бояться: нас, называя наш страх коммунизмом.
Теперь — вдруг. Чего бояться? Ни того, ни другого, ни третьего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: