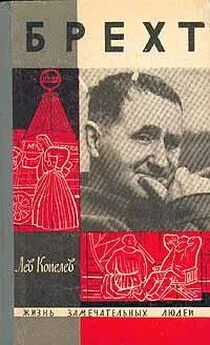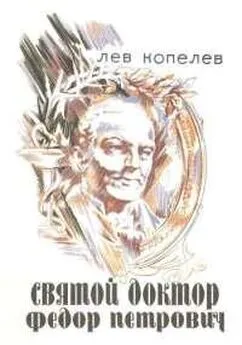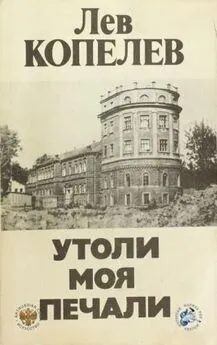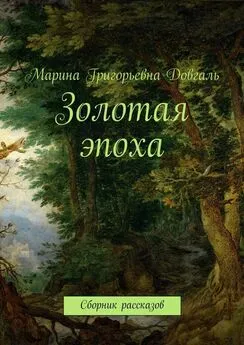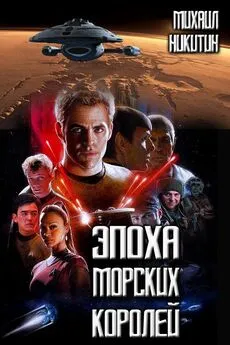Д. Копелев - Золотая эпоха морского разбоя
- Название:Золотая эпоха морского разбоя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Остожье
- Год:1997
- Город:М.
- ISBN:5-86095-084-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Д. Копелев - Золотая эпоха морского разбоя краткое содержание
Книга посвящена истории пиратства и корсарства XVI— XVIII вв. В ней систематизированы многочисленные (в том числе и ранее не использованные) источники, воспоминания современников, редкие документы.
Это не строго научное исследование — скорее, очерки по истории морского разбоя, написанные на основе документальных свидетельств и проверенных исторических фактов. Автор выделил наиболее характерные и типичные черты морского разбоя, систематизировал и классифицировал его как явление всемирной истории. Хронологическими рамками книги стала эпоха Великих географических открытий — время проникновения европейцев в Новый Свет, страны южных морей, Африку и Ост-Индию, время становления единого мирового хозяйственного рынка, время безудержного разгула морского разбоя, не ограниченного еще рамками строгих морских границ, установленных колониальными державами.
Золотая эпоха морского разбоя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
(«Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции».)
Мигель де Сервантес Сааведра в Алжире
«Если раны мои и не красят меня в глазах тех, кто их видел, то во всяком случае возвышают меня во мнении тех, кто знает, где я их получил, ибо лучше солдату пасть мертвым в бою, нежели спастись бегством… Шрамы на лице и на груди солдата — это звезды, указывающие всем остальным, как вознестись к небу почета и похвал заслуженных». Так писал в предисловии ко второй части романа «Дон Кихот» великий испанский писатель Мигель де Сервантес Сааведра, размышляя о тяжелых увечьях, полученных им в сражении с турецким флотом в бухте Лепанто.
Тогда, командуя ротой на галере «Маркеза», героический идальго получил две раны в грудь, а выстрел из аркебузы искалечил ему левую руку, и развившийся паралич превратил Сервантеса в калеку. Но мужественный двадцатитрехлетний солдат не мог и представить, что безжалостная бойня в Лепанто — это лишь начало страшных испытаний, которые ждут его впереди. Ему предстояло пройти через плен у алжирских корсаров и в ежедневной борьбе за свободу познать предательство, унижение, нравственные и физические терзания.
После Лепанто военная деятельность де Сервантеса продолжалась еще несколько лет. Полгода пролежав в госпитале, он вернулся на службу, сражался с турками на море у греческого побережья и на суше, в Тунисе, находился в гарнизонах на острове Сардиния и в Неаполе. Так продолжалось до 1575 года, когда Сервантес решил оставить военное поприще.
В сентябре он с братом Родриго сел на небольшую галеру «Эль Соль» («Солнце») и отплыл из Неаполя на родину. Казалось, он мог не беспокоиться о своем будущем; в его железной шкатулке лежали рекомендательные письма на имя короля Филиппа II, полученные Сервантесом от сводного брата короля дона Хуана Австрийского, командующего христианским флотом на Средиземном море, и Карлоса Арагонского, герцога де Сеса, вице-короля Неаполя, — они должны были составить ему протекцию в Испании. Галера держала путь на Барселону. 26 сентября она миновала Марсель и проходила мимо устья Роны, когда случилось непредвиденное. «Приняв меры предосторожности, мы тронулись в путь, держась берега и намеренно не забираясь в открытое море, — рассказывал Сервантес о происшедшем в новелле «Английская испанка». — Когда мы подплывали к расположенной на французском побережье местности, именуемой «Три Марии», и наша первая фелюга была на разведке, из одной бухты на нас внезапно выехали два турецких галиота; один из них отрезал нас с моря, другой — со стороны земли, а когда мы бросились к берегу, они настигли нас и захватили в плен. Переведя на свой галиот, турки нас раздели донага; все, что было на фелюгах, они разграбили; самые фелюги они не потопили, а выбросили на берег, сказав, что они им пригодятся в другой раз для перевозки награбленной у христиан добычи».
Сервантес попал в рабство к корсару Лели Мами и был привезен в Алжир. На беду или на счастье, алжирцы нашли при нем рекомендательные письма к королю и посчитали, что имеют дело с влиятельным и знатным грандом. Сервантесу объявили, что он выйдет на свободу, когда за него заплатят большой выкуп, — уверениям испанца, говорившего, что его родственники небогаты, естественно, никто не поверил. Впрочем, расчеты корсаров на получение выкупа не один раз спасали Сервантеса, ведь за время плена он совершил множество проступков, за которые запросто могли содрать кожу, отрезать уши или повесить вниз головой.
Однорукий испанец не оставлял попыток освободиться. Первый раз он бежал из плена весной 1576 года. С несколькими испанцами он подкупил какого-то мавра, который пообещал довести беглецов до Орана, испанского владения на североафриканском побережье, находившегося примерно в двух неделях пути от Алжира. Но через несколько дней пути проводник сбежал, испугавшись, что его схватят. Испанцы оказались одни, без продовольствия и оружия, в выжженной пустыне, где обитали только кочевые разбойничьи племена. Впереди их ждала лишь смерть — выхода у беглецов не было, и им пришлось возвращаться в Алжир. Они не были строго наказаны — ведь, как никак, живой раб лучше мертвого.
Прошел год. К июлю 1577 года семья Сервантеса сумела собрать 300 эскудо, но этой суммы хватило лишь на выкуп Родриго, который к сентябрю вернулся на родину. Он прибыл в Испанию и немедленно приступил к осуществлению нового плана спасения алжирских невольников, разработанного Мигелем. Испанский корабль должен был незаметно приблизиться к побережью, войти в небольшую бухту в нескольких милях от Алжира и, приняв на борт беглых рабов, уйти в Испанию. Уже в течение нескольких месяцев беглецы поодиночке убегали от своих алжирских хозяев и прятались неподалеку от города — в заброшенной пещере, скрытой в глубине сада, принадлежавшего влиятельному алжирскому сановнику. Тот редко наведывался в свою загородную резиденцию, и невольники были здесь в безопасности.
Операция провалилась в последний момент. Когда в конце сентября судно подошло к берегу, его заметили местные рыбаки. Капитан был вынужден увести корабль в открытое море и ожидать более удобного случая. Корабль вскоре вернулся, и спасение уже было близко. Но когда беглецы уже собирались направиться к берегу, в пешеру внезапно ворвалась стража, и всех рабов схватили. Тайну раскрыл флорентиец Дорадор, носивший в пещеру еду. Сервантес мужественно взял вину за подготовку побега на себя, был брошен в тюрьму, посажен на железную цепь и несколько месяцев просидел в одиночной камере. Только в марте 1578 года его выпустили из застенка.
История однорукого пленника стала известна в Алжире и привлекла к нему внимание самого правителя Гассан-паши по прозвищу Венециано. Вскоре Сервантес попал к нему — он с ужасом вспоминал об этом изверге в романе «Дон Кихот»: «…нас мучило то, что мы на каждом шагу видели и слышали, как хозяин мой совершает по отношению к христианам невиданные и неслыханные жестокости. Каждый день он кого-нибудь вешал, другою сажал на кол, третьему отрезал уши, — и все по самому ничтожному поводу, а то и вовсе без всякою повода, так что сами турки понимали, что это жестокость ради жестокости и что он человеконенавистник по своей природе». Наружность Гассана бросалась в глаза. Это был высокий худой человек, с мертвенно-бледным лицом, сверкающими глазами и редкой рыжей бородой. Его жизнь сложилась удивительным образом. Профессия у этого венецианца сначала была самая мирная — он служил писарем. Но как-то раз галера, на которой он служил, была захвачена Драгут-раисом, и пленник был продан Ульдж Али. Невольник был горд, храбр, энергичен и вошел в доверие к хозяину, который как раз начинал свою карьеру. Вскоре Гассан стал ренегатом и «в конце концов, — писал Сервантес, — превратился в самого жестокого вероотступника, которого когда-либо видел свет». Садистские наклонности будущего правителя Алжира не удовлетворялись зрелищем обычной казни, — его не устраивали ни сожжение на костре, ни отсечение головы, ни удушение. Этот изувер любил наблюдать за необычными смертями, в придумывании которых ему не было равных. Те, кто видел Гассана и общался с ним, утверждали, что беседовали с человеком, пропахшим кровью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: