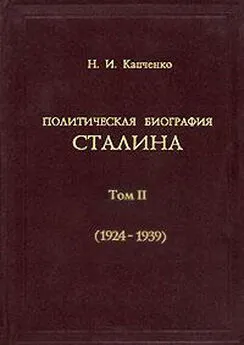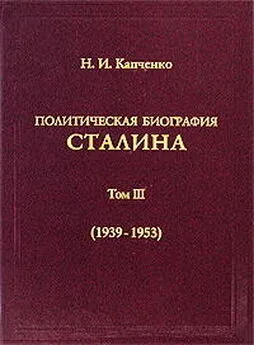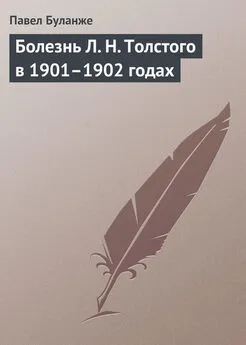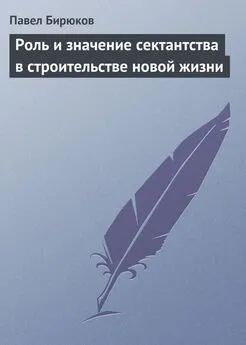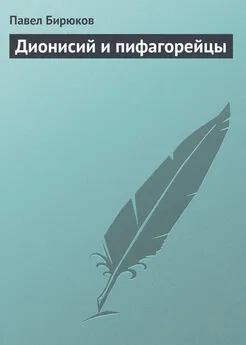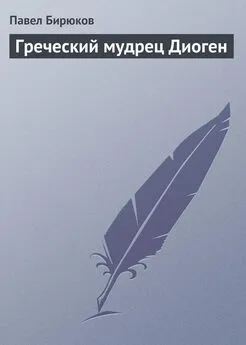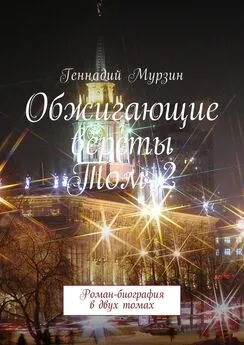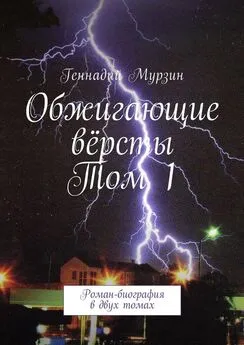Павел Бирюков - Биография Л Н Толстого (Том 4)
- Название:Биография Л Н Толстого (Том 4)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Бирюков - Биография Л Н Толстого (Том 4) краткое содержание
Биография Л Н Толстого (Том 4) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
- Как я рад, что перечитываю Гоголя,- говорил он Гусеву.- Я теперь читаю "Переписку с друзьями". Рядом с пошлостями такие глубокие религиозные истины.
На другой день он говорил:
- Хочется писать о Гоголе. Это суеверие искусства, как чего-то особо важного, совершенно захватило его. "Женитьба" - вся пьеса глупая, бестактная, и тут вдруг с важностью пишут: "не разобрано одно слово..." Это плод нашей праздной жизни".
На вопрос Гусева о дальнейшем развитии миросозерцания Гоголя, Л. Н. сказал:
- Потом он принял религию всю, как она есть, по-детски, покорился, не выбирая, что ему нужно из нее, что не нужно".
После этого разговора Л. Н. продиктовал Гусеву следующую статью:
"Гоголь - огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум.
Отдается он своему таланту - и выходят прекрасные литературные произведения, как "Старосветские помещики", первая часть "Мертвых душ", "Ревизор" и в особенности - верх совершенства в своем роде - "Коляска". Отдается своему сердцу, "религиозному чувству" - и выходит в его письмах, как в письме "О значении болезней", "О том, что такое слово" и во многих и многих других, трогательные, часто глубокие и поучительные мысли. Но как только хочет он писать художественные произведения на религиозно-нравственные темы или придать уже написанным произведениям несвойственный им нравственно-религиозный поучительный смысл - выходит ужасная, отвратительная чепуха, как это проявляется во второй части "Мертвых душ", в заключительной сцене к "Ревизору" и преимущественно в письмах.
Происходит это от того, что, с одной стороны, Гоголь приписывает искусству несвойственное ему высокое значение, а с другой - еще менее свойственное религии низкое значение церковной веры и хочет объяснить это воображаемое высокое значение своих произведений этой церковной верой. Если бы Гоголь, с одной стороны, просто любил бы писать повести, комедии и занимался этим, не придавая этим занятиям особенного гегельянского, священнослужительского значения, и, с другой стороны, просто признавал бы церковное учение и государственное устройство как нечто такое, с чем ему незачем спорить и чего нет основания оправдывать, то он продолжал бы писать свои очень хорошие рассказы и комедии и при случае высказал бы в письмах, а, может быть, и в отдельных сочинениях свои часто очень глубокие, из сердца выходящие нравственно-религиозные мысли. Но, к сожалению, в то время, как Гоголь вступил в литературный мир, в особенности после смерти не только огромного таланта, но и бодрого, ясного, не запутанного Пушкина, царствовало по отношению к искусству - не могу иначе сказать - до невероятности глупое учение Гегеля, по которому выходило то, что строить дома, петь песни, рисовать картины и писать повести, комедии и стихи представляет из себя некое священнодействие, "служение красоте", стоящее только на одну ступень ниже религии,- служение, продолжающее иметь значение даже и после того, когда религия уже признана чем-то отжившим и ненужным.
Одновременно с этим учением было распространено в то же время и другое, не менее нелепое и не менее запутанное и напыщенное - учение славянофильства о каком-то особенном значении русского, т. е. того, к которому принадлежали рассуждающие, народа, и вместе с тем о каком-то особенном, исключительном значении православия.
Гоголь, хоть и мало сознательно, усвоил себе оба учения. Учение об особенном значении искусства он, естественно, усвоил, потому что оно приписывало великую важность его деятельности; другое же, славянофильское учение, тоже не могло не привлечь его, так как, оправдывая все существующее, успокаивало и льстило самолюбию.
И Гоголь усвоил оба учения и постарался соединить их в применении к своему писательству. Из этой попытки и вышли те удивительные нелепости, которые так поражают в его письмах последнего времени".
Интересны пометки Льва Николаевича при перечитывании "Выбранных мест из переписки с друзьями", выраженные в баллах по пятибалльной системе:
Завещание. Отмечено N. В. "Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном".
Женщина в свете - 5.
Значение болезней - 5+
О том, что такое слово - 5+++
О помощи бедным - 2.
Об Одиссее - 1.
Несколько слов о нашей церкви и духовенстве - 0.
О том же - 0.
О лиризме наших поэтов - 1.
Отмечено N. В. "напыщенно, темно и невразумительно".
Споры - 4.
Христианин идет вперед - 5.
Карамзин - 1.
О театре - 5.
Предметы для лирическ. поэта - 5.
Советы - 5+
Просвещение - 0+
Четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ".
Нужно любить Россию - 1.
Поставлено 5: "Один Христос... любовь к братьям".
Нужно проездиться по России - 1.
Что такое губернаторша - 0+
Русский помещик - 0.
Исторический живописец Иванов - 1.
Чем может быть жена для мужа -1.
Страхи и ужасы России - 4.
Близорукому приятелю - 5.
Занимающему важное место - 1.
Чей удел на земле выше - 5 за начало до слов "последний нищий".
Напутствие - 1.
В чем существо русской поэзии - 2.
Светлое Воскресение -1.
Письмо к Россети - 3.
О "Современнике" - 2.
Авторская исповедь - 1.
Лев Николаевич передал эту статью и пометки корреспонденту "Русского слова" Спиро, который при этом спросил его:
- Каково ваше мнение, Лев Николаевич, о чествовании Гоголя?
- Я не могу никак сочувствовать этому чествованию, так же, как и не могу сочувствовать своему, так как не могу приписывать вообще искусству того значения. которое принято в нашем так называемом высшем, но в действительности низшем по нравственному складу обществе. И потому, по моему мнению, если бы каким-нибудь чудом провалилось, уничтожилось все, что называется искусством и художеством, то человечество ничего не потеряло бы. Если бы оно и лишилось кое-каких хороших произведений, то зато избавилось бы от той ужасной, зловредной дребедени, которая теперь неудержимо разрастается и заливает его.
Сказав это и добродушно улыбнувшись, Лев Николаевич прибавил:
- Ну, кажется, хороший повод, чтобы меня ругали...
К этому же времени относится интересная оценка Л. Н-чем романа А. И. Эртеля "Гарденины". Эту оценку Л. Н-ч выразил в письме, послужившем предисловием к 5-му тому собрания сочинений А. И. Эртеля:
"В связи с издаваемым полным собранием сочинений покойного Александра Ивановича Эртеля меня просили написать несколько слов о его сочинениях. Я очень рад был этому случаю перечесть "Гардениных". Несмотря на нездоровье и занятия, начав читать эту книгу, я не мог оторваться, пока не прочел всю и не перечел некоторых мест по нескольку раз.
Главное достоинство, кроме серьезности отношения к делу, кроме такого знания народного быта, какого я не знаю ни у одного писателя, кроме сильной, часто не сознаваемой автором любви к народу, который он иногда хочет изображать в темном свете, неподражаемое, не встречаемое нигде достоинство этого романа - это удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его верен, силен, красив, он бесконечно разнообразен. Старик-дворовый говорит одним языком, мастеровой - другим, молодой парень - третьим, бабы - четвертым, девки опять иным. У какого-то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Эртеля количество это, особенно народных слов, было бы самое большое из всех русских писателей, да еще каких верных, хороших, сильных, нигде, кроме как в народе, не употребляемых, слов, и нигде эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хочет щегольнуть, удивить подслушанным им словечком. Эртелю кажется более естественным говорить народным, чем литературным языком.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: