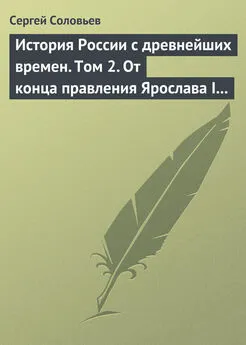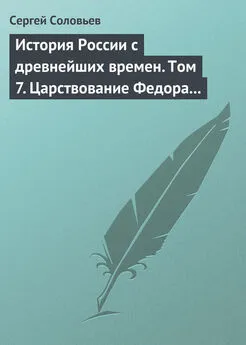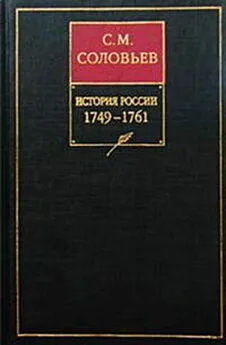Сергей Соловьев - История России с древнейших времен Том 3
- Название:История России с древнейших времен Том 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Соловьев - История России с древнейших времен Том 3 краткое содержание
История России с древнейших времен Том 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В таком положении находились дела на востоке и западе, когда в 1389 году умер великий князь московский Димитрий, еще только 39 лет от рождения. Дед, дядя и отец Димитрия в тишине приготовили богатые средства к борьбе открытой, решительной. Заслуга Димитрия состояла в том, что он умел воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготовленные силы и дать им вовремя надлежащее употребление. Мы не станем взвешивать заслуг Димитрия сравнительно с заслугами его предшественников; заметим только, что употребление сил происходит обыкновенно громче и виднее их приготовления, и богатое событиями княжение Димитрия, протекшее с начала до конца в упорной и важной борьбе, легко затмило бедные событиями княжения предшественников; события, подобные битве Куликовской, сильно поражают воображение современников, надолго остаются в памяти потомков, и потому неудивительно, что победитель Мамая получил подле Александра Невского такое видное место между князьями новой Северо-Восточной Руси. Лучшим доказательством особенно важного значения, придаваемого деятельности Димитрия современниками, служит существование особого сказания о подвигах этого князя, особого, украшенно написанного жития его. Наружность Димитрия описывается таким образом: «Бяше крепок и мужествен, и телом велик, и широк, и плечист, и чреват вельми, и тяжек собою зело, брадою ж и власы черн, взором же дивен зело». В житии прославляется строгая жизнь Димитрия, отвращение от забав, благочестие, незлобие, целомудрие до брака и после брака; между прочим, говорится: «Аще и книгам неучен беаше добре, но духовныя книги в сердце своем имяше». Кончина Димитрия описывается таким образом: «Разболеся и прискорбен бысть вельми, потом же легчае бысть ему; и паки впаде в большую болезнь и стенание прииде к сердцю его, яко торгати внутрьним его, и уже приближися к смерти душа».
Важные следствия деятельности Димитрия обнаруживаются в его духовном завещании; в нем встречаем неслыханное прежде распоряжение: московский князь благословляет старшего своего сына Василия великим княжением Владимирским, которое зовет своею отчиною. Донской уже не боится соперников для своего сына ни из Твери, ни из Суздаля. Кроме Василия у Димитрия оставалось еще пять сыновей: Юрий, Андрей, Петр, Иван и Константин; но двое последних были малолетни; Константин родился только за четыре дня до смерти отцовской, и великий князь поручает свою отчину, Москву, только четверым сыновьям. В этой отчине, т. е. в городе Москве и в станах, к ней принадлежавших, Донской владел двумя жребиями, жребием отца своего Ивана и дяди Симеона, третьим жребием владел Владимир Андреевич: он остался за ним и теперь. Из двух своих жребиев великий князь половину отдает старшему сыну Василию, на старший путь ; Другая, половина разделена на три части между остальными сыновьями. Другие города Московского княжества разделены между четырьмя сыновьями: Коломна - старшему Василию, Звенигород - Юрию, Можайск - Андрею, Дмитров - Петру. Благословляя старшего Василия областию великого княжения Владимирского, к которому принадлежали области Костромская и Переяславская, Димитрий отдает остальным троим сыновьям города, купленные еще Калитою и окончательно присоединенные только им: Юрию - Галич, Андрею - Белоозеро, Петру - Углич. Предпоследний сын, Иван, сильно обделен: ему ничего не назначено из собственно Московской отчины, удел его ничтожен в сравнении с уделами других братьев. Такую, по-видимому, несправедливость объясняют слова завещателя: «В том уделе волен сын мой князь Иван, который брат до него будет добр, тому даст». Из этих слов видно, что князь Иван был болен и не мог иметь надежды на потомство: вот почему Донской дает ему право распорядиться своим маленьким уделом в пользу того брата, который будет до него добр; в самом деле, Иван умер скоро по смерти отца. Завещание было написано прежде рождения самого младшего сына Константина, и потому на его счет сказано следующее: «А даст бог сына, и княгиня моя поделит его, взявши по доли у больших его братьев». Княгине своей Димитрий завещал по нескольку волостей из уделов каждого сына с тем, чтоб по смерти ее эти волости отошли к тому князю, к уделу которого принадлежали; но теми волостями, которые примыслил сам Димитрий и дал жене или которые она сама примыслила, великая княгиня могла распорядиться по произволу: «сыну ли которому даст, по душе ли даст». Великой княгине уступлена также неограниченная власть при дальнейшем распределении волостей между сыновьями в следующих случаях: когда умрет один из князей, то уделом его княгиня делит остальных сыновей; если у которого-нибудь из князей убудет отчины, то княгиня вознаграждает его за потерю, отделив ему часть из уделов остальных братьев; если умрет старший сын князь Василий, то его удел переходит к старшему по нем брату; удел последнего княгиня делит между всеми сыновьями. Наконец, завещатель выражает надежду, что сыновья его перестанут давать выход в Орду.
Говоря о важном значении княжения Димитриева в истории Северо-Восточной Руси, мы не должны забывать и деятельности бояр московских: они, пользуясь обстоятельствами, отстояли права своего малолетнего князя и своего княжества, которым и управляли до возмужалости Димитрия. Последний не остался неблагодарен людям, которые так сильно хотели ему добра; доказательством служат следующие места жития его, обнаруживающие всю степень влияния бояр на события Димитриева княжения. Чувствуя приближение смерти, Димитрий, по словам сочинителя жития, дал сыновьям следующее наставление: «Бояр своих любите, честь им достойную воздавайте против их службы, без воли их ничего не делайте». Потом умирающий князь обратился к боярам с такими словами: «Вы знаете, каков мой обычай и нрав, родился я перед вами, при вас вырос, с вами царствовал; воевал вместе с вами на многие страны, противникам был страшен, поганых низложил с божиею помощию и врагов покорил, великое княжение свое сильно укрепил, мир и тишину дал Русской земле, отчину свою с вами сохранил, вам честь и любовь оказывал, под вами города держал и большие волости, детей ваших любил, никому зла не сделал, не отнял ничего силою, не досадил, не укорил, не ограбил, не обесчестил, но всех любил, в чести держал, веселился с вами, с вами и скорбел, и вы не назывались у меня боярами, но князьями земли моей».
Кто же были эти бояре? Первое место между ними принадлежит Димитрию Михайловичу Волынскому-Боброку, победителю рязанцев и решителю Куликовской битвы; он выехал из Волыни в Москву при Донском и женился на сестре великокняжеской, Анне; между свидетелями, подписавшимися на второй духовной великого князя, имя Димитрия Михайловича стоит на первом месте. После Волынского следует Тимофей Васильевич, окольничий, который называется также великим воеводою; по родословным книгам, он был брат последнего тысяцкого, Василия Васильевича Вельяминова; в первой духовной Донского он подписался свидетелем на первом месте, во второй духовной - на втором, уступив первое Димитрию Михайловичу Волынскому; подпись эта доказывает, что он не был убит на Куликовском сражении, как говорится в сказаниях. После Тимофея, окольничего, на духовных грамотах следует подпись Ивана Родионовича Квашни, который в известиях о Куликовской битве называется костромским воеводою: это был сын известного Родиона Несторовича, боярина Калитина. После имени Ивана Родионовича в духовных великого князя следуют имена двоих Федоров Андреевичей: первый был сын известного уже в предыдущее княжение боярина Андрея Кобылы; но сын, Федор Андреевич, носил уже другое прозвание - Кошка; о знатности этого боярина свидетельствует то, что великий князь тверской Михаил Александрович женил своего сына на его дочери. Другой боярин, Федор Андреевич Свибл , был правнук знаменитого Акинфа чрез сына его, известного уж нам Ивана. Свибл, как мы видели, был начальником рати, опустошившей землю Мордовскую; кто из обоих Федоров Андреевичей был оставлен в Москве воеводою во время Донского похода и кто из них вытягал у смольнян два места, как значится в духовной великого князя, - решить нельзя, ибо прозваний в обоих случаях нет. Во второй духовной встречаем имена двоих Иванов Федоровичей: один из них должен быть сын боярина Федора Кошки; что же касается до другого, то в родословных книгах значится, что у последнего тысяцкого Василия Васильевича был брат Федор Воронец, у которого был сын Иван, носивший боярское звание. Но очень может быть также и Иван Федорович Уда, происходивший, по родословным, от князей Фоминских-Смоленских; имя одного Ивана Федоровича встречается и в первой духовной и в договорной грамоте с Олгердом. Что касается до остальных имен, встречаемых в подписях на грамотах: Ивана Михайловича, Димитрия Александровича, Симеона Васильевича, Александра Андреевича, Ивана Андреевича, то мы видели прежде имена Михаила, Александра, Василия и Андрея между боярами московскими; Димитрий Александрович может быть или Димитрий Александрович Всеволож, сын выходца смоленского, князя Александра Всеволодовича, который вместе с братом Владимиром упоминается в сказаниях о Донской битве, или внук мурзы Чета, выехавшего при Калите, предка Сабуровых и Годуновых. Относительно Александра Андреевича должно заметить, что, по родословным, между боярами великого князя Димитрия значится Андрей Одинец, у которого был сын Александр Белеут; Александр Белеут вместе с Федором Свиблом и Иваном Федоровичем Удою был послан в 1384 г. в Новгород брать черный бор; но, кроме того, между братьями Федора Андреевича Свибла встречаем имена Александра и Ивана. В летописи под 1367 годом встречаем воеводу Димитрия Минина, родоначальника Софроновских и Проестевых, посланного против Олгерда вместе с воеводою князя Владимира Андреевича, Акинфом Федоровичем Шубою. Послом в Константинополь с нареченным митрополитом Митяем отправлен был большой боярин Юрий Васильевич Кочевин Олешенский, сын известного нам при Калите Василия Кочевы. В известиях о Куликовской битве упоминается владимирский воевода Тимофей Валуевич, переяславский Андрей Серкизович; по родословным книгам, к великому князю Димитрию выехал из Орды царевич Серкиз, у которого был сын Андрей; боярином же Донского называется Владимир Данилович Красный Снабдя, потомок князей муромских. В известиях о Куликовской битве упоминается боярин и крепкий воевода Семен Мелик; в родословных значится: «Семен Мелик да Василий: оба из немец пришли». Между убитыми на Дону упоминаются: Михаил Андреевич Бренко, любимец великокняжеский, Семен Михайлович, Михайла и Иван Акинфовичи, Иван Александрович, Андрей Шуба, Валуй Окатьевич, Лев Мазырев, Тарас Шетнев. Упоминается боярин Михалко Александрович, который сказал великому князю, сколько осталось в живых после Куликовской битвы. Под 1382 годом упоминаются бояре Симен Тимофеевич (сын окольничего, по родословным) и Михаил, быть может Михаил Андреевич Челядня, брат Федора Свибла, ездившие за митрополитом Киприаном.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: