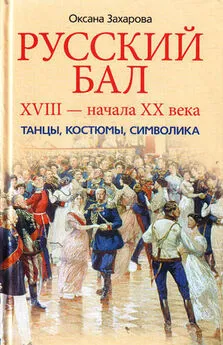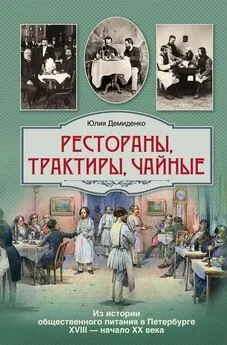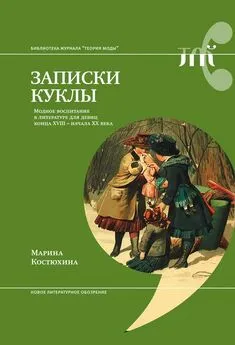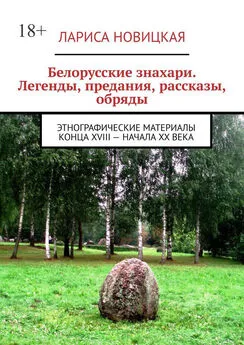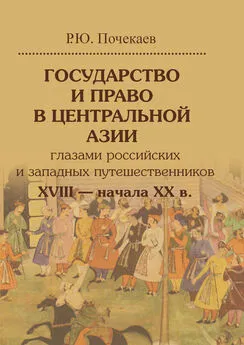Роман Почекаев - Государство и право в Центральной Азии глазами российских и западных путешественников. Монголия XVII – начала XX века
- Название:Государство и право в Центральной Азии глазами российских и западных путешественников. Монголия XVII – начала XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2260-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Почекаев - Государство и право в Центральной Азии глазами российских и западных путешественников. Монголия XVII – начала XX века краткое содержание
Книга предназначена для правоведов – специалистов в области истории государства и права, сравнительного правоведения, юридической и политической антропологии, историков, монголоведов, источниковедов, политологов, этнографов, а также может служить дополнительным материалом для студентов, обучающихся данным специальностям.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Государство и право в Центральной Азии глазами российских и западных путешественников. Монголия XVII – начала XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава II
Путешественники о государстве и праве монгольских ханств XVII в.
Как уже отмечалось, именно в XVII в. началось установление и развитие связей Московского царства с монгольскими народами и государствами. Первые контакты в самом начале столетия имели место между русскими дипломатами и калмыками – частью ойратского народа, переселившейся в российские владения. Однако уже в середине 1610-х годов начинается обмен посольствами с правителями Северной Монголии (Халхи). Московские дипломаты в своих «статейных списках» (отчетах) и «сказках» (устных рассказах) по итогам поездок к монголам освещали различные стороны их жизни и деятельности.
До сих пор эти сведения использовались преимущественно как источник по политической истории Монголии и русско-монгольских отношений [64]. Предпринимались также попытки привлекать их как материалы по истории монгольского быта, экономики, этнографии [65]и, конечно же, исторической географии (истории географических открытий и проч.) [66]. В данной главе предпринимаются попытки извлечь из записок русских дипломатов XVII в. сведения о государственности и праве Северо-Восточной Монголии (Халхи).
Безусловно, право монголов рассматриваемого периода достаточно хорошо известно исследователям, ведь именно в конце XVI – первой половине XVII в. появляется целый ряд кодификаций, содержащих нормы, регулировавшие самые разные сферы правоотношений в монгольском обществе: «Уложение Алтан-хана» (ок. 1577 г.), «Восемнадцать степных законов» (рубеж XVI–XVII вв.), «Их Цааз» (1640 г.), «Свод законов съезда Кукунора» (1685 г.). Вряд ли можно ожидать от записок русских дипломатов существенного дополнения к содержанию этих правовых памятников – тем более что перед ними ставились вполне конкретные задачи, реализацию которых они старались максимально подробно отразить в своих отчетах: приведение монгольских правителей к шерти, т. е. признанию ими сюзеренитета московских монархов; обеспечение безопасности восточных границ Московского царства; возвращение перебежчиков из числа кочевых подданных Москвы и т. п. Поэтому какие-либо дополнительные (помимо содержания переговоров) сведения в их записках – скорее исключение.
Тем не менее даже немногочисленные упоминания о правовых реалиях монголов, которые присутствуют в отчетах дипломатов XVII в., представляют значительный интерес и ценность для исследователей. Во-первых, они отражают не столько содержание официальных правовых актов, сколько действующие правоотношения, т. е. действие правовых сводов на практике. И во-вторых, в них присутствует информация о таких аспектах обычного монгольского права, которые не были зафиксированы в упомянутых правовых кодификациях.
В рамках данной главы анализируются статейные списки, расспросные речи и «доезды» российских дипломатов, побывавших в различных монгольских государства и улусах с 1616 по 1695 гг. Большинство этих исторических памятников уже многократно изучалось исследователями – в особенности после публикации четырех томов документов по истории русско-монгольских отношений в 1959–2000 гг. В большинстве своем это отчеты о дипломатических миссиях, совершенных представителями сибирской администрации. Кроме того, были привлечены и отчеты о некоторых русских дипломатических миссиях в Китай – ведь их участники также значительную часть пути проделывали по территории Монголии, вступали в контакты с монгольскими правителями. Дополняют их и весьма немногочисленные свидетельства западных путешественников второй половины XVII в., побывших в Монголии. Таким образом, в нашем распоряжении имеется достаточно большой корпус документов, содержащих сведения о разных сторонах монгольской правовой жизни XVII в.
Власть и управление в Монголии XVII в. Представляется целесообразным начать анализ со сведений о правовом статусе монгольских правителей, особенностях их взаимоотношений с собственными подданными и соседними государями – ведь это во многом влияло на само состояние правоотношений во владениях тех или иных монгольских правителей [67]. Сообщения дипломатов дают возможность вполне четко проследить эволюцию правового положения монгольских владетелей – сначала как независимых правителей в своих владениях, затем как вассалов империи Цин (сначала номинальных, а затем и фактических).
С самого начала развития русско-монгольских отношений правители Северной Монголии, как следует из записок русских дипломатов, всячески старались подчеркнуть свою независимость, заявляя, что никому не подчиняются и не платят дани [68]. Особенно ярко эту позицию выражали те монгольские ханы и тайджи, которым предлагалось «шертовать» московскому царю, поскольку видели в этом признание некоего «холопства» по отношению к русскому монарху, которому готовы были «служить» и, соответственно, получать за это от него «жалованье», т. е. дары, но никак не считаться его данниками [69].
Между тем монгольские правители фактически либо выдавали желаемое за действительное, либо лукавили в переговорах с русскими дипломатами: уже вскоре после вхождения южномонгольского Чахарского ханства в состав Цин, в 1630-е годы, халхасские правители начали посылать дань цинским властям и вести переговоры о вассалитете, а с 1655 г. даже стали отправлять своих заложников-аманатов в Пекин, что уже прямо свидетельствовало об их подчинении Китаю [70]. В последней трети XVII в. вассалитет северомонгольских правителей от империи Цин стал уже свершившимся и очевидным фактом: сын боярский И.М. Милованов, проезжавший в Китай через северомонгольские земли в 1670 г., сообщает, что уже в это время «мугальской царь Чечен-кан [т. е. Сэчен-хан Бабо (1652–1685). – Р. П. ] дань дает богдойскому ж царю» [71].
А в 1680–1690-е годы вассалитет северомонгольских князей от маньчжурского императора приобретает и официальный характер, что, в частности, нашло отражение в создании в империи Цин специальных властных структур для контроля над Северной Монголией. Николай Спафарий, а затем Эбергард Идес и Адам Бранд, участники московской дипломатической миссии в Китай в 1692–1694 гг., упоминают о «монгольском приказе» в Пекине [72] – по-видимому, предтече будущей «Палаты внешних сношений» (Лифаньюань), который появился как раз для организации управления монгольскими землями в новых условиях.
При этом следует отметить, что, получая дань со своих монгольских вассалов и задействуя их в военных кампаниях, сами китайцы им никак не помогали, если те подвергались внешним нападениям. Так, по сообщению португальского миссионера Томаса Перейры, участника цинской миссии в период подписания Нерчинского договора 1689 г., когда джунгары напали на монголов и разгромили их, китайцы не пришли им на помощь. А его спутник и коллега француз Франсуа Жербийон замечает, что единственная их помощь заключалась в том, что одному из монгольских князей, пострадавших от набегов джунгар, было позволено перекочевать в китайские владения и остаться там [73].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: