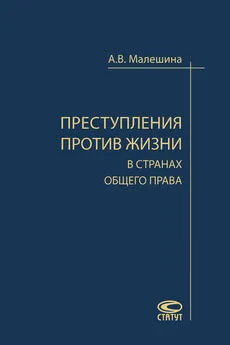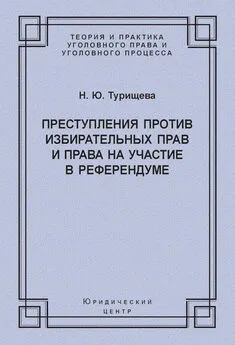Анастасия Малешина - Преступления против жизни в странах общего права
- Название:Преступления против жизни в странах общего права
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8354-1391-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анастасия Малешина - Преступления против жизни в странах общего права краткое содержание
Не ограничиваясь сугубо теоретическими вопросами, автор стремится показать наиболее сложные практические проблемы применения существующих правовых норм. Отдельное внимание в работе уделено особому, выработанному правопорядками рассматриваемых в работе государств, подходу к определению объекта исследуемых преступлений – жизни, и как следствие, самостоятельной группе преступных деяний, объектом которых выступает жизнь нерожденного человека, по сути «будущая» жизнь. В монографии затронуты и многие другие актуальные проблемы биоэтики в их уголовно-правовом контексте, а также способы решения сложных правовых и этических вопросов в правопорядках, которые стали объектом исследования. Также в работе содержатся конкретные рекомендации по совершенствованию российского уголовного права.
Для научных и практических работников, студентов и аспирантов, а также всех интересующихся теорией и практикой зарубежного уголовного права.
Преступления против жизни в странах общего права - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
31
См., например, УК Флориды (ст. 775-01), в соответствии с положениями которого тогда, когда нет установленной законом нормы, регулирующей вопросы преступности и наказуемости деяний, может применяться «общее право Англии»; УК Айдахо, ст. 18-303 которого предусматривает наказания за преступления, которые не названы в уголовном законе, но «признаются таковыми общим правом»; § 14-1 УК Северной Каролины к фелониям относит те преступления, которые считаются фелониями согласно нормам общего права; § 15 УК штата Калифорния говорит о нарушении правовой нормы, к которой относится и норма закона, и норма общего права.
32
Rose v. Locke, 423 U.S. 48, 50.
33
См. подробнее: Robinson Paul H. United States / The Handbook of Comparative Criminal Law / Ed. by Heller K.J., Dubber M.D. Stanford, 2011; Allen Francis A . The Habits of Legality: Criminal Justice and the Rule of Law. N.Y., 1996; Endicott T. Law is Necessarily Vague // Legal Theory. 2001. Vol. 7 № 4. P. 379–385. LaFave W.R . Criminal Law. 4 th. Ed. St. Paul. MN, 2003. P. 109 – 115.
34
См. подробнее § 2 главы 1.
35
Козочкин И.Д . Уголовное право США. Успехи и проблемы реформирования. СПб., 2007. С. 72.
36
Козочкин И.Д. Уголовное право США. Успехи и проблемы реформирования. С. 87.
37
Додонов В.Н. Указ. соч. С. 57.
38
Cardozo Benjamin N. The Method of Sociology. The Judge as a Legislator / Cardozo on the Law. Birmingham, 1982. P. 141.
39
См.: Lacey N. In Search of the Responsible Subject of Criminal Law // Modern Law Review. 2001. Vol. 64. № 3. P. 359–360; Norrie A. Crime, Reason and History. Oxford, 2001. P. 8; Stuart D . Supporting General Principles for Criminal Responsibility in the Model Penal Code with Suggestions for Reconsideration: A Canadian Perspective // Buffalo Cr. L. Rev. 2000. Vol. 4. № 1. P. 13–51.
40
Богдановская И.Ю. «Общее право»: конец «триумфа традиций» // Юридический мир. 2003. № 6. С. 17.
41
Coker v. Georgia, 433 U.S. 584, 591 (1977) (per White J.).
42
Carter v. Canada [2015] 1 S.C.R. 331.
43
Cardozo Benjamin N . The Growth of the Law / Cardozo on the Law. Birmingham, 1982. P. 20.
44
См. подробнее: Cardozo Benjamin N. The Paradoxes of Legal Science / Cardozo on the Law. Birmingham, 1982. P. 31–67.
45
Cardozo Benjamin N. The Paradoxes of Legal Science. P. 43.
46
Здесь и далее речь будет идти об уголовных моделях Англии и Уэльса, поскольку правовая модель Шотландии занимает особое место. Различие исторических факторов, влиявших на государственное формирование Шотландии и Англии, привело к тому, что их правовые модели отличаются друг от друга. В своем развитии Шотландия опиралась на институты как континентального, так и общего права, что придало смешанный характер ее правовой модели.
47
Encyclopedia Canadiana.Toronto, 1987. P. 155.
48
Консолидация как форма систематизации предполагает объединение в одном общем законодательном акте на основе единого предмета регулирования нескольких нормативных актов, при этом новый укрупненный акт не меняет содержание правового регулирования. В отличие от консолидации кодификация – это «коренная переработка действующих нормативных актов в определенной сфере отношений, способ качественного упорядочения законодательства» (См.: Общая теория государства и права: Академический курс в 3 томах. Т. 2 / Под ред. М.Н. Марченко. М., 2002. С. 383–385. ( Автор главы – А.С. Пиголкин )). По мнению И.Ю. Богдановской, ««общее право» демонстрирует преимущества консолидации (с позиции юридической техники, принятия, внесения последующих поправок) как вида систематизации в условиях модернизации отдельных отраслей права. Несмотря на продолжающиеся попытки выработать модель кодекса, приемлемую для «общего права», кодификация как вид систематизации имеет ограниченные возможности, обусловленные прежде всего соотношением кодекса и судебных прецедентов, а также прецедентов толкования. В современный период преимущественно принимаются кодифицированные акты, которые регулируют более узкий круг отношений» ( Богдановская И.Ю . Источники права на современном этапе развития «общего права»: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С. 10–11).
49
Herring J. Criminal Law. Oxford, 2007. P. 40.
50
Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Т. 1. М., 2010. С. 373.
51
Devlin P. Morals and the Criminal Law // The Philosophy of Law / Ed. by R.M. Dworkin. N.Y., 1977. P. 70.
52
Материальный элемент преступления ( actus reus ) предполагает наличие запрещенного законом поведения ( conduct ), его последствий ( consequence ) и причинно-следственной связи между ними ( causation ).
53
Hart H.L.A. Positivism and the Separation of Law and Morals // The Philosophy of Law / Ed. by R.M. Dworkin. N.Y., 1977. P. 15–22.
54
Devlin P . Morals and the Criminal Law // The Philosophy of Law/ Ed. by R.M. Dworkin. N.Y., 1977. P. 71.
55
Cavadino M. & Dignan J. The Penal System. An Introduction. 4 thed. London, 2007. P. 36.
56
Критический анализ концепций основных представителей классической школы уголовного права, к которой относится теория воздаяния, см, например, в статье: Materni Mike C. Criminal Punishment and the Pursuit of Justice // British Journal of American Legal Studies. 2013. Vol. 2. № 1. P. 266–277. Например, автор говорит о том, что категорический императив И. Канта, будучи априорным по своей природе, не предполагает эмпирической составляющей. Он говорит нам о том, что смыслом, сущностью и целью наказания является возмездие, но ничего не говорит нам о том, почему это так. В правовой сфере подобные утверждения, не основанные на практических выводах, превращаются в пустые формулы ( Materni Mike C. Op. cit. P. 273). Опасность таких формул заключается в том, что они могут быть наполнены любым содержанием. Вместе с тем с этической точки зрения совершенно не ясно, почему достойным воздаянием за свершенное зло является зло, а не добро. «Возмездие ради возмездия не может привести к достижению благих целей; единственное, чему может служить такой подход – унижение человеческого достоинства». Еще больше возражений вызывают метафизические концепции наказания Г.В.Ф. Гегеля, в соответствии с которыми наказание представляет собой отрицание ничтожного в самом себе преступления – совершая преступление, лицо отрицает охраняемые законом и моралью права, отрицая права лица, совершившего преступление, мы отрицаем тем самым его волю, а следовательно, утверждаем право. Отрицание отрицания, право, уничтожающее неправду, превращает наказание в возмездие. Однако эта концепция отрицания вызывает еще больше вопросов – почему насилие должно быть нивелировано именно насилием. Почему нельзя утверждать обратное, что насилие насилием только лишь множится или, по крайней мере, остается на прежнем уровне. В конечном счете «отрицание отрицания» можно рассматривать как фигуру речи, фразеологизм, за которым ничего не стоит ( Materni Mike C. Op. cit. P. 274).
57
В качестве важного аргумента против данной теории, в частности, приводится ее чрезмерная подвижность, гибкость, зависимость от внешних факторов – от рассматриваемой социальной среды, от системы принятых в обществе ценностей, от уровня осведомленности о фактических обстоятельствах совершенного преступного деяния, от уровня образованности лиц, принимающих решение о виде и размере налагаемого на преступника наказания, наконец, от понимания категории «справедливого воздаяния» академической элитой, правоприменителями и обывателями. Обращают внимание также и на такую особенность теории, как ее чрезвычайная неопределенность и абстрактность – мы можем in abstracto утверждать, что лицо, совершившее преступление, «заслуживает» наказания, но сказать in concreto , какого наказания и каковы критерии для определения его вида и размера, будет достаточно сложно. «Когда кто-либо говорит, что обвиняемый заслуживает 10 лет лишения свободы, пожизненного лишения свободы или смертной казни, мы знаем, что выступающий находит именно такое наказание нравственно обоснованным. Но мы не знаем, как это нравственное воздаяние было определено. Обвиняемого приговаривают к 10 годам лишения свободы, потому что точно такое же наказание было назначено за аналогичное преступление тем же судьей на прошлой неделе? Заслуживает ли обвиняемый смертной казни, потому что является жестоким привычным преступником и являет собой серьезную угрозу для общества? Или он заслуживает смертной казни, потому что лишил жизни молодую привлекательную обеспеченную женщину, чья жизнь была особо ценна для общества? Слова о том, что лицо заслуживает наказания, слишком туманны, поскольку ничего не говорят о том, как определить, какого именно» ( Ristroph A. Desert, Democracy and Sentencing Reform // Journal of Criminal Law and Criminology. 2006. Vol. 96. № 4. P. 1310–1311, 1327). Иллюстрацией такой неопределенности, например, выступают наказания, налагаемые на рецидивистов, лиц невменяемых или ограниченно вменяемых, несовершеннолетних, которые, взятые как система, являют собой иллюстрацию теории воздаяния, в то время как взятые по отдельности в каждом конкретном случае часто представляют собой реализацию утилитарных концепций наказания, а также общественной паники и страха, особенно если преступление и его расследование получило широкий общественный резонанс. Еще более ярким примером служит применяемая в США смертная казнь – при ответе на вопрос, заслуживает ли обвиняемый смертной казни, присяжные заседатели, как показывает практика, руководствуются факторами, которые ничего не говорят об особой «моральной упречности» лица, выступают скорее свидетельством подсознательных страхов конкретного присяжного заседателя, его ксенофобии, скрытых низменных мотивов – расовая принадлежность, социальный статус, ориентация и т. д. «Таким образом, воздаяние превращается в механизм придания нравственной и правовой силы нашим подсознательным антипатиям» ( Ristroph A. Op. cit. P. 1331).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: