Коллектив авторов - Мама, у меня будет книга! Как научиться писать в разных жанрах и найти свой стиль
- Название:Мама, у меня будет книга! Как научиться писать в разных жанрах и найти свой стиль
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»
- Год:2020
- ISBN:978-5-04-110045-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Мама, у меня будет книга! Как научиться писать в разных жанрах и найти свой стиль краткое содержание
«Опыт и пот, – вот и вся формула успеха». Так говорят Майя Кучерская и Марина Степнова – известные российские писательницы и преподавательницы Высшей школы экономики. Выпускники их магистерской программы по литературному мастерству и стали основными авторами этой книги.
Они разобрали по полочкам девять ведущих жанров художественной литературы: детектив, фантастику, антиутопию, фэнтези, ужасы, эротику, магический реализм и кросс жанр. Из этой книги вы получите не только историческую справку о зарождении каждого из этих направлений, становлении и их деконструкции, но и научитесь сами работать в каждом из них. Внутри множество примеров от выдающихся писателей, инструкции и задания, которые помогут создать вам собственный рассказ.
Не бойтесь пробовать и ошибаться, следовать традициям и нарушать их – просто позвольте себе быть писателем.
И тогда в вашей жизни обязательно настанет момент, когда вы сможете сказать: «Мама, у меня будет книга!» В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Мама, у меня будет книга! Как научиться писать в разных жанрах и найти свой стиль - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Готический модус характерен и для исторических романов Вальтера Скотта, а действие произведений «певцов романтизма» Гёте и Кольриджа часто разворачивается в Средневековье.
Для русской литературы этого периода характерно жанровое смешение не просто характерно. Все еще серьезнее: русская литература из этого смешения родилась. Юрий Тынянов пишет:
« Вся революционная суть пушкинской «поэмы» «Руслан и Людмила» была в том, что это была «не-поэма» (то же и с «Кавказским пленником»); претендентом на место героической «поэмы» оказывалась легкая «сказка» XVIII века, однако за эту свою легкость не извиняющаяся; критика почувствовала, что это какой-то выпад из системы. На самом деле это смещение системы » [6] Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 255.
.
«Смещение» литературы в результате «смешения» жанров вообще ключевое определение для Тынянова. Его поддерживает Лотман:
« При таком соотношении жанров, их постоянной перекличке и взаимном вторжении, образовывавшем как бы единый многоголосый оркестр, в принципе отменялся иерархический подход к жанрам. Ценность того или иного жанра определялась его художественной выразительностью в рамках данного замысла, а не местом в абстрактной иерархии. Перенесение норм одного жанра в пределы другого оказалось важным революционизирующим средством пушкинского стиля и источником его динамики. Отсюда поражавшее современников ощущение новизны и необычности пушкинского стиля » [7] Лотман Ю. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 9.
.
Итак, Пушкин переформулировал литературу как систему за счет того, что отбросил привычные представления об иерархии и играл на смешении жанров и стилевых регистров. Разумеется, не стоит считать, что на Пушкине эксперименты в литературе закончились. Поэма Лермонтова «Валерик» представляет собой переплетение элементов эпистолярного романа, эпоса и репортажа. На смешении построено и творчество Гоголя: «Петербургские повести» соединяют элементы готической поэтики и характерное для позднего романтизма внимание к быту и нравам людей. Смешав жанровые элементы, Гоголь положил начало русскому реализму. Всю историю русской литературы XIX века можно представить как большую реку, в которую вливаются новые жанровые притоки, чтобы, входя в единый культурный поток, создавались произведения вне иерархических скоб.
Рождение газет и массовой печати привело к появлению бульварных романов, в которых действовала намного более простая сюжетная и стилевая машинерия по сравнению с «высокой» литературной традицией. В России популярность приобрели лубки о Ваньке-Каине, в Великобритании – лубочная сатира на современные сюжеты. Уже в викторианскую эпоху «грошовые романы», насыщенные сценами ужаса, сексуальных перверсий и опасных приключений, приобретают особую популярность у «низов». После тяжелого дня рабочие фабрик, солдаты, матросы, ткачихи, прачки, кухарки читали насыщенные ужасами и юмором истории, напечатанные на дешевой бумаге. Как замечал философ Алексис де Токвиль: «низы не индифферентны к культуре, наукам и литературе, они лишь разрабатывают их на свой манер». Кажется, именно из восприятия бульварных романов как «романов для низов» и растут предрассудки по отношению к массовой культуре. Тем забавнее, что бульварным чтивом как источником новых идей и элементов повествования пользуются два крупнейщих писателя эпохи: Чарльз Диккенс и Федор Достоевский, в романах которого элементы авантюрных произведений в духе Эжена Сю сплетаются с элементами проповедей, житий святых и детективов.
В это же время начинаются эксперименты c пространством текста: книга должна быть больше самой книги, книга должна вместить все книги. По мнению Мишеля Фуко, первой такой книгой должно было стать «Искушение святого Антония» Гюстава Флобера – недописанный роман-мистерия, отдельными частями издававшийся в 1856–1857 годах. Структура книги «матрешечная»: укрываясь от ужасов ночи, Антоний зажигает факел и открывает книгу, откуда в свою очередь на него (а значит, и на читателя Флобера) выливается целый поток ярких образов – пиршества, дворец, сладострастная царица и ученик Иларион. Иларион, в свою очередь, открывает иллюзорное пространство, откуда появляются еретики, боги и разные формы жизни. Однако и здесь текст не прекращает плодить сущности: еретики рассказывают о своих обрядах, боги повествуют о временах былого могущества и т. д. Фантастические герои сосуществуют с историческими, и все повествование разворачивается в своеобразный марионеточный театр, где самые страшные образы выныривают из глубины повествования на передний план. Фуко отмечал, что мотивы из «Искушения» появляются почти во всех крупных произведениях Флобера.
Таким образом, жанровые иерархии оказываются неактуальными для литературы XIX века. Все несколько меняется с появлением фантастики: несмотря на то, что крупнейшие писатели вроде Толстого и Достоевского также экспериментировали с фантастикой, фантастический элемент еще довольно долго (вплоть до наших дней) будет восприниматься как маркер «низкой» литературы, на которую серьезному читателю не стоит обращать внимания. Уже Жюль Верн жаловался на то, что его тексты о техническом прогрессе и космических приключениях не воспринимаются серьезно. Не в последнюю очередь этому способствовали сами фантасты: визионер и блестящий писатель Герберт Уэллс решительно отказал фантастике в способности «предсказывать будущее»: «У меня, в конце концов, нет хрустального шара». Даже в Советской России, где произведения футуризма грезили будущим и фантастика была на подъеме, писателям-фантастам в итоге указали на дверь, за которой часто оказывался припаркован «черный воронок». В опале оказались Кржижановский, Платонов, обэриуты. Беляеву и Алексею Толстому предлагают искать «новый жанр», фантастический элемент активно изгоняется из литературы. Советский человек должен узнавать о том, как живут и трудятся советские люди, а мечты о будущем коммунизме должны оставаться максимально неконкретными, чтобы ненароком не разойтись с генеральной линией партии.
Итак, и в западноевропейской, и в русской литературной традиции фантастика оказалась в «жанровом гетто». «Несерьезной» литературой считались и детектив, и романтическая проза. Тем временем эксперименты продолжались: в «Опавших листьях» Розанова максимы в стиле Ларошфуко смешиваются с традиционным мемуарным нарративом; смешением литературных стилей отличается повесть Андрея Белого «Петербург». Фантастичны по своей сути повести Кафки, а Джеймс Джойс создает «Поминки по Финнегану», которые можно назвать буквально памятником жанровому смешению, потому что их невозможно отнести к какому-либо жанру в принципе – как и «Искушение святого Антония» Флобера много раньше.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
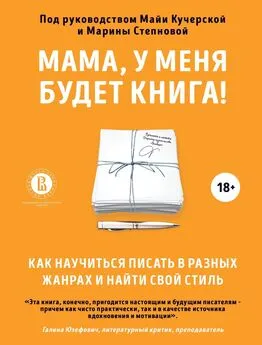


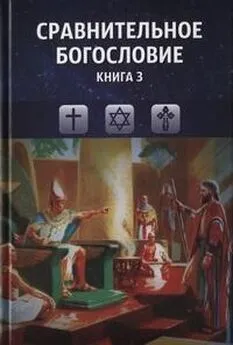


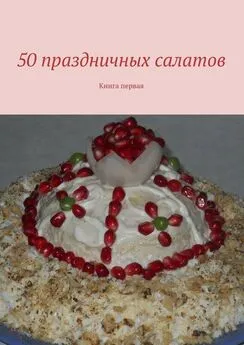
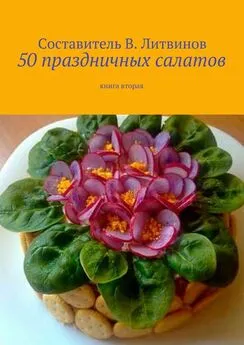
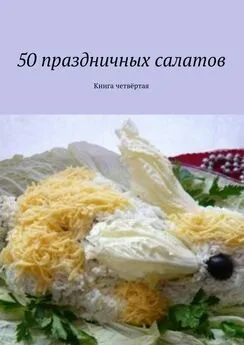
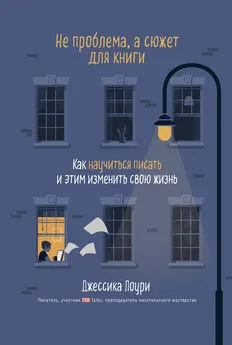
![Коллектив авторов - Мама на нуле. Путеводитель по родительскому выгоранию [litres]](/books/1072255/kollektiv-avtorov-mama-na-nule-putevoditel-po-ro.webp)