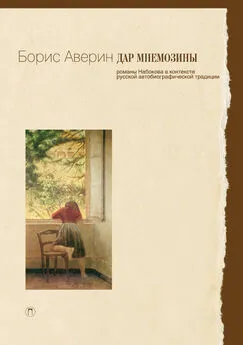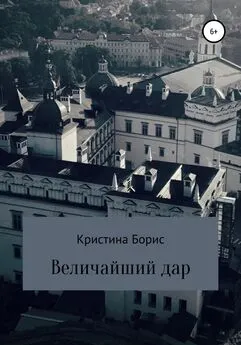Борис Аверин - Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции
- Название:Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2016
- ISBN:978-5-521-00007-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Аверин - Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции краткое содержание
Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все сочинения Шестова насыщены полемикой с философами, начиная от Парменида и Эмпедокла и кончая Бергсоном и Гуссерлем. Но, полемизируя, в учении каждого он находил своеобразные противоречащие их построениям оговорки, неожиданные, случайные мысли, чаще всего вольно или невольно скрываемые и, как правило, связанные с неуловимым, колеблющимся, сомневающимся личным «Я». Им-то Шестов и придавал особое значение, трактуя их как своего рода «lucida intervalla», благодаря которым по стенам логической тюрьмы проходят трещины. В истории человечества, считает Шестов, подобные мысли не сыграли никакой роли, превратившись в «окаменелости, свидетельствующие о прошлом, но мертвые для будущего» [100]. На протяжении всего творчества Шестов пытался вернуть им их живой смысл, искал образы, способные передать то проявление высшей истины, то прикосновение к сущности вещей, которое виделось ему в таких, почти случайно промелькнувших, высказываниях.
Но почему эти откровения так трудно уловимы? Может быть, задавался вопросом Шестов, они изначально запрещены человеку? Ведь в Талмуде сказано: «Познавшему все, сущность всех вещей, лучше совсем на свет не рождаться» [101]. Однако есть у Шестова и другие ответы, другие гипотезы. Ссылаясь опять-таки на Талмуд, Шестов пересказывает легенду об ангеле смерти, сплошь покрытом глазами [102]. Он является человеку, но убеждается, что пришел рано, и незаметно оставляет человеку свои два глаза. Тогда человек начинает видеть по-новому, как видят существа иных миров. Это зрение не «необходимо», как у плененных разумом людей, вкусивших от древа познания, а свободно. Так возникают у людей образы, кажущиеся им незаконными, нелепыми, фантастическими. По существу, они представляют собой «откровения смерти» (так называется первая часть книги «На весах Иова»). Сталкиваясь со смертью, человек вдруг осознает, что все земные «вещие» дела утрачивают свой смысл и значение; в состоянии полного одиночества (смерть всегда переживается в одиночестве) человек открывает то, что было наглухо закрыто для него.
Другой ответ связан с заветом древних: познай самого себя. Именно при попытке самопознания вдруг всплывают в человеке эти странные, ни с чем не сообразные мысли, вроде мысли Еврипида: «Кто знает, – может, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь?» – приведенной Шестовым в начале главы с характерным названием: «Преодоление самоочевидностей». Но самопознание подчинено тому самому разуму, который стал достоянием человека после грехопадения.
Во вторую часть книги «На весах Иова» («Дерзновения и покорности») Шестов включил специальную главу о самопознании. Здесь сказано, что заповедь «Познай самого себя», вопреки древним, вовсе не есть заповедь Бога, ибо пути познания – все того же «разумного» познания – это пути, на которых обретается встреча лишь с явлением, а не с внутренней сущностью, лишь с объектом, а не с суверенной природой субъекта. Жизнь и свобода связаны с непостоянством, а разумное самопознание способно воспринимать лишь константные «общие» характеристики, которые, по сути дела, скрывают индивидуальный внутренний мир. Способное иметь дело только с объектами, познание не в силах преодолеть преграду между субъектом и объектом даже тогда, когда специально задается этой целью. Причина опять-таки связана с грехопадением: «Такое „знание“, где познаваемое не является объектом, где есть только субъекты, противно человеческой грешной природе» [103].
Может быть, спрашивал Шестов, необходимо начать перевоспитывать разум в надежде вернуться к состоянию до грехопадения? Однако философ уверен, что разум не подлежит «перевоспитанию», ибо все черпает из самого себя и не выходит за положенные ему границы. Показательно, что попытка Бергсона поставить на место разума «интуицию длительности» и обратиться к познанию «Я» в его динамике, а не статике, была, как считает Шестов, героической, но неудачной: «динамика так же механистична, как и статика» [104].
Для того, кто исходит из ясных, рациональных, общих, над человеком стоящих истин, «Бог, по образу и подобию которого сделан человек, то есть Бог личный, Бог-индивидуум, есть представление „смутное“, то есть ложное представление. Истинное понятие есть ясное и отчетливое – тот общий Дух, или Дух общего, о котором мы слышали от Гегеля» [105].
Преклонение перед Духом общего предполагает, в качестве исходной посылки, что «появление человека на земле есть нечестивое дерзновение», которое требует очищения, то есть «стремления вырвать из себя свою <���…> „самость“ и раствориться в „высшей“ идее» [106]. Противоположная по своему смыслу и по последствиям исходная мировоззренческая предпосылка заключается в том, что «Бог создал человека по образу и подобию своему и, создавши, благословил». Если вы примете это положение, «плоды с древа познания добра и зла перестанут прельщать вас, вы начнете стремиться к тому, что „по ту сторону добра и зла“, анамнезис (воспоминание) о том, что видел ваш праотец, будет непрерывно тревожить вас, торжественные славословия разуму будут казаться вам скучными стенами земли, а все наши самоочевидности – стенами тюрьмы» [107].
Самое творческое переживание, неподвластное логике, но дающееся в момент просветления и высказываемое почти невольно (именно в такое мгновение, считает Шестов, Платону открылась идея анамнезиса), подобно смутному чувству сновидца, «когда вдруг сонная действительность начинает казаться ему иллюзией и неопределенный анамнезис об иной действительности, которой он был причастен в иной жизни, начинает разрушать „единство сознания“ и, вопреки всем очевидностям, властно требовать не укрепления сна, а пробуждения» [108]. Между тем наука провозгласила анамнезис атавизмом: разум не знает, что делать с этой способностью человека. Отчасти в силу тех же причин Платону не удалось донести эту идею до людей в том виде, как она ему открылась, ибо подобные вещи противятся воплощению, чуждаются изреченного.
Итак, единственная точка схождения между Афинами и Иерусалимом, которую видит Шестов, оказывается связанной именно с сюжетом воспоминания. Платоновский анамнезис сближается, по Шестову, с воспоминанием человека о состоянии, предшествовавшем грехопадению: «„анамнезис“ о потерянном рае до сих пор живет в человеке» [109]. До грехопадения человек питался не от древа познания, а от древа жизни – его-то и надлежит вспомнить, оно-то и составляет искомую цель, предмет анамнезиса, открывающийся в редкие мгновения просветлений. Если разум, полученный от вкушения плодов древа познания, способен питаться только самим собой и все выводить исключительно из самого себя, то воспоминание о плодах древа жизни – это воспоминание о другом источнике, оно размыкает герметичные границы разумного познания, разрушает стены тюрьмы, в которую оно заключено. Но именно потому откровения и воспоминания подобного рода почти не поддаются словесному выражению: ведь слово так же пленено разумом, как и человеческое «Я».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: