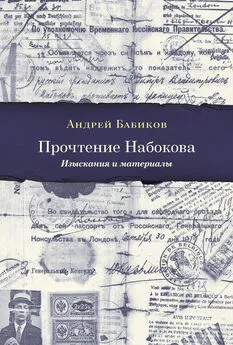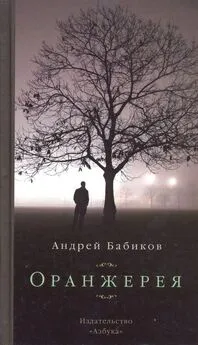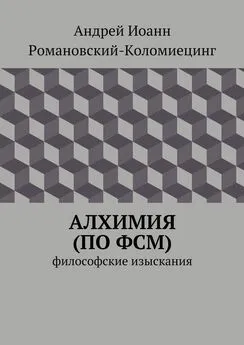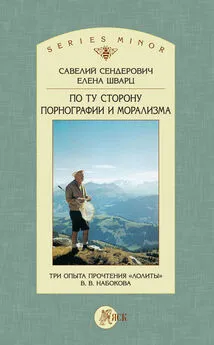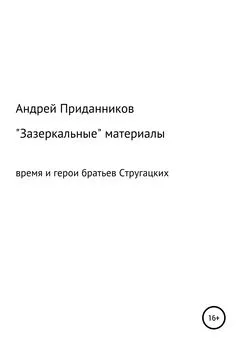Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Название:Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иван Лимбах Литагент
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-350-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы краткое содержание
Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты». Исходя из целостного взгляда на феномен двуязычного писателя, не упрощая и не разделяя его искусство на «русский» и «американский» периоды, автор книги находит множество убедительных доказательств тому, что науку о Набокове ждет немало открытий и новых прочтений.
Помимо ряда архивных сочинений, напечатанных до сих пор лишь однажды в периодических изданиях, в книгу включено несколько впервые публикуемых рукописей Набокова – лекций, докладов, заметок, стихотворений и писем.
Прочтение Набокова. Изыскания и материалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сирин дебютировал в литературе как поэт. В стихах его чувствовалось несомненное версификаторское дарование, но иногда не было ни одного слова, которое запомнилось бы, ни одной строчки, которую хотелось бы повторить. Стихи были довольно затейливы, гладки, умны, однако водянисты. Первый роман Сирина, «Машенька», – мало замеченный у нас, – мне лично показался прелестным <���…> Сразу стало ясно, что к прозе Сирин имеет значительно больше расположения, чем к стихам [85] Адамович Г. <���Рец.> «Современные записки». Кн. 40 // Иллюстрированная Россия. 1929. 7 декабря. № 50 (239). С. 16. Цит. по: Классик без ретуши. С. 57.
.
Ошибкою было бы думать, что в последующем их многолетнем противостоянии все дело было в зависти или в обидных шпильках. Причиной тому была разность их взглядов на искусство, на Пушкина, на Достоевского, на цеховые ценности и коллективное творчество, на место писателя-эмигранта в русской литературе. Ошибкою было бы думать также, что взгляды их были совершенно различными. Адамович хорошо разбирался в поэзии, и Набоков это знал. В стихах Шишкова сквозило нечто такое, что по-настоящему тронуло его и что не было довоплощено в стихах Сирина. Сама тема ухода, конца, «последних стихов» была близка его мыслям: в эссе 1936 года с красноречивым названием «Немота», Адамович писал об эмигрантской поэзии, что «нельзя отделаться от впечатления, что поэты не пишут, а дописывают», что «дух <���…> уходит из стихов – и „плачет, уходя“» [86] Адамович Г. Немота // Последние новости. 1936. 24 сентября. С. 3. Цит. по: Критика русского зарубежья: В 2 ч. / Сост., преамбулы, примеч. О. А. Коростелева, Н. Г. Мельникова. М., 2002. Ч. 2. С. 53.
.
По изложенной Бойдом интерпретации событий и побуждений их участников также следует, что «Поэты» отличались от других стихотворений Набокова только своим необычным размером (четырехстопный амфибрахий) и подписью, в остальном же они были ничуть не лучше тех его «прекрасных» стихов, которых Адамович не признавал, и что именно подпись и необычный у Набокова стихотворный размер ввели критика в заблуждение. Этот взгляд оспаривает Максим Шраер. Подробно разбирая обстоятельства шишковской мистификации, он справедливо указывает, что не избранный Набоковым в «Поэтах» стихотворный размер обманул Адамовича, который в 1939 году едва ли «мог столь детально помнить весь метрический репертуар Набокова, особенно если учесть, что Набоков, по всей видимости, не публиковал стихов под своим именем с 1935 года»; его очаровала та «удивительная точность и сдержанность», с какой Набоков в этом стихотворении «рассматривает вопросы <���…> жизненно важные для эмигрантских кругов» [87] Шраер М. Д. Набоков: темы и вариации. С. 223.
.
В самом деле, все немногие стихотворения Набокова первой половины 30-х годов, когда производительность его музы резко пошла на убыль, – «Безумец», «На закате», «Формула», «Вечер на пустыре», «Как я люблю тебя», «Незнакомка из Сены» – замкнуты на личности поэта, обращены к нему самому, его прошлому, его дару. Он спрашивает себя: «Что со мной?», «О чем я думал столько лет?», он восклицает: «Какой закат!», «Как ты умела глядеть!» – в них есть только «я» и «ты», «они» словно не существуют. И вдруг после почти полной остановки стихотворчества Набоков как будто открывает новый поэтический клапан и сочиняет в январе 1939 года одно из лучших своих стихотворений (и, пожалуй, лучшее в отношении оригинальной моторики чередования мужских рифм и дактилических) «Мы с тобою так верили», посвященное И. В. Гессену и впервые подписанное «В. Шишковъ» [88] Автограф этого стихотворения приводит В. П. Старк (Звезда. № 4. 1999. Третья полоса обложки).
. Уже в этих стихах, напечатай Набоков их под маской Шишкова, не так просто было бы узнать руку «поэтического старовера» Сирина, и, стало быть, уже тогда, в январе 1939 года, Набоков, если бы хотел, мог поставить свой опыт над Адамовичем.
В этих переходных стихах с особым нажимом выражен разлад Набокова с самим собой, недовольство своими юношескими сочинениями («до чего ты мне кажешься, юность моя, / по цветам не моей, по чертам недействительной»), тем Сириным, который, по его собственному замечанию, «писал все те же очень правильные стихи» [89] Письмо от 1 августа 1925 г.: Письма В. В. Набокова к Г. П. Струве. Ч. 1. 1925–1931 / Публ. Е. Б. Белодубровского и А. А. Долинина // Звезда. 2003. № 11. С. 121.
. В романе «Взгляни на арлекинов!» Набоков ретроспективно феноменально точно от имени своего героя, Вадима Вадимовича N., описал суть этого разлада:
В то время у меня, казалось, было две музы: настоящая, истеричная, искренняя, дразнившая меня летучими обрывками образов и ломавшая руки над моей неспособностью принять чародейство и безумие, даровавшиеся мне, и ее подмастерье, ее девочка с палитрой и эрзац, здравомыслящая малышка, заполнявшая рваные пустоты, оставленные ее госпожой, пояснительной или ритмо-восстановительной мякотью, которой становилось все больше и больше по мере моего удаления от изначального, эфемерного, дикого совершенства. Коварная музыка русских ритмов сулила мне иллюзорное избавление, подобно тем демонам-искусителям, что нарушают черное безмолвие преисподней художника своими имитациями греческих поэтов и доисторических птиц. Еще один, уже окончательный обман совершался в Чистовой Копии, когда каллиграфия, веленевая бумага и чернила на короткое время приукрашивали мертвые вирши. И подумать только, ведь почти пять лет я вновь и вновь брался за перо и каждый раз попадался на этот трюк, пока не выгнал вон эту нарумяненную, брюхатую, покорную и жалкую подручную! [90] Набоков В. Взгляни на арлекинов! 4-е изд., уточ. и доп. СПб.: Азбука, 2016. С. 51–52.
Не став публиковать «Мы с тобою так верили…», в следующем шишковском стихотворении, «Поэтах», Набоков развил успех, впервые приблизив свои стихи к уровню своей же прозы тех лет. По какой-то причине, имевшей, возможно, отношение к смерти молодого талантливого поэта Бориса Поплавского (1935), как предположил Шраер, и позднее – Ходасевича, и вследствие острого ощущения завершенности двадцатилетнего периода русской литературы за рубежом Набоков отказывается от демонстративного отрицания своей причастности к какой бы то ни было общности; теперь он говорит: « мы уходим», « нас доконали», «пора нам уйти», – под маской Шишкова он вдруг начинает говорить от имени всех русских поэтов в эмиграции. На перемену тона и строя его стихов повлияла, по-видимому, смерть его матери весной 1939 года, с которой для него были связаны самые первые стихотворческие переживания, описанные в «Других берегах».
Несмотря на то что к концу 30-х годов Набоков уже твердо решил переезжать в Англию или Америку и писать по-английски (в январе 1939 года в Париже он закончил свой первый английский роман «Истинная жизнь Севастьяна Найта»), судьба эмиграции, пути русской литературы продолжали волновать его так же сильно, как и в самые первые берлинские годы. В статье «О Ходасевиче» он обращается к парижским «поэтам здешнего поколения», предостерегая их от общих мест – «лечебной лирики» в литературной среде или Сены – в сумрачной парижской действительности, пишет едкую рецензию на сборник «Литературный смотр» (Париж, 1939), где продолжает свой спор с авторами круга Гиппиус и Адамовича, несколько раз выступает с чтением своих произведений на литературных вечерах (в Париже, Брюсселе, Лондоне). Среди его архивных бумаг 1939–1940 годов есть несколько, показывающих, что в это время он живо откликался на события общественного и даже политического толка. В декабре 1939 года он подписывает вместе с И. Буниным, З. Гиппиус (!), Д. Мережковским, М. Алдановым и другими «Протест против вторжения в Финляндию». В начале 1940 года он пишет «Воззвание о помощи», призывая обратить внимание на «последних русских интеллигентов, вымираю<���щих> в одичалой Франции» и « наших бедных эмигрантских детей» (курсив мой. – А. Б. ) [91] Набоков В. Воззвание о помощи / Публ., примеч. А. Бабикова // Звезда. 2013. № 9. С. 117. См. в наст. издании.
. В июне 1940 года, уже находясь в Нью-Йорке, он пишет очерк «Определения», где называет «Хитлера» «автором бешеной брошюры» и «ничтожеством», а в заключение подводит итог русской эмиграции:
Интервал:
Закладка: