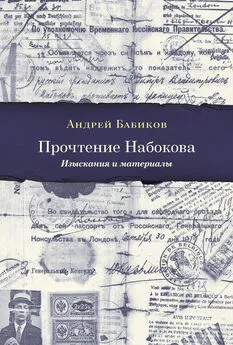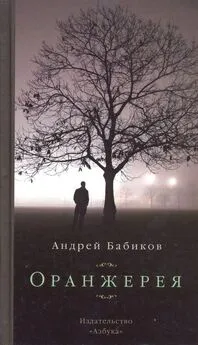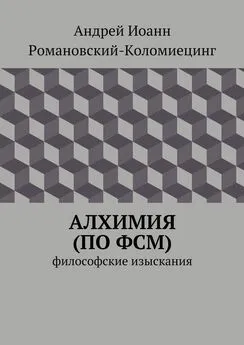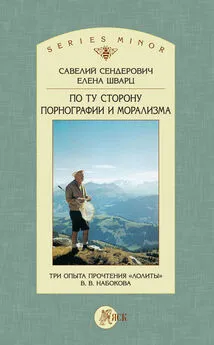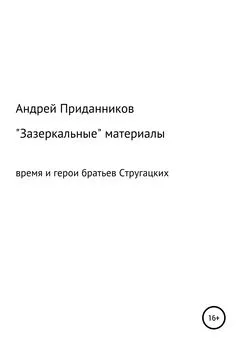Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Название:Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иван Лимбах Литагент
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-350-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы краткое содержание
Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты». Исходя из целостного взгляда на феномен двуязычного писателя, не упрощая и не разделяя его искусство на «русский» и «американский» периоды, автор книги находит множество убедительных доказательств тому, что науку о Набокове ждет немало открытий и новых прочтений.
Помимо ряда архивных сочинений, напечатанных до сих пор лишь однажды в периодических изданиях, в книгу включено несколько впервые публикуемых рукописей Набокова – лекций, докладов, заметок, стихотворений и писем.
Прочтение Набокова. Изыскания и материалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это постоянное – открытое и тайное – присутствие Пушкина выполняло у Набокова некую охранительную функцию, с одной стороны, удерживая его на самой высокой точке искусства и вдохновляя его ясной пушкинской идеей совершенства, а с другой – отлучая отступников и профанов от избранного им источника. «Не трогайте Пушкина, – одергивает Годунов-Чердынцев в «Даре» поэта Кончеева, когда тот заговаривает о слабостях неоконченной пушкинской «Русалки». – Это золотой фонд нашей литературы» [136] Набоков В. Дар. С. 83.
. Резкость тона объясняется настойчивыми попытками эмигрантских критиков, и особенно Адамовича, принизить значение Пушкина или хотя бы указать на его «слабости» [137] Подробнее об этом см.: Долинин А. Истинная жизнь писателя Сирина. С. 234–236.
. Вопреки этому Годунов-Чердынцев в набросках к продолжению «Дара» дописывает пушкинскую «Русалку» в военном Париже и под вой сирен воздушной тревоги читает свое окончание Кончееву – действие отнесено к осени 1939 года, после смерти его прототипа Ходасевича [138] Ходасевич не был единственным, по-видимому, прототипом Кончеева. Набоков нередко смешивал черты нескольких человек в своих персонажах, как, например, в Жоржике Уранском («Пнин») он соединил двух Георгиев – Иванова и Адамовича. Противопоставляя в «Даре» Федора Годунова-Чердынцева и Кончеева Христофору Мортусу, в котором Дж. Малмстад обнаружил также черты З. Гиппиус, Набоков отобразил действительное противостояние Ходасевича и свое собственное с кругом Адамовича, Иванова, Гиппиус и Оцупа. Подтверждением умышленности фиксации в «Даре» этой расстановки сил служит признание Набокова в 1962 г. в предисловии к английскому переводу «Дара», что он отразил в Кончееве некоторые собственные черты. Любопытно, что в разговоре Федора Годунова-Чердынцева с Кончеевым о «Русалке» последний упоминает Ходасевича – как если бы Василий Шишков упомянул бы где-нибудь Набокова.
.
На этом пушкинском « продолжении » в неосуществленной второй части «Дара» должна была закончиться эмигрантская глава биографии Сирина. Ему суждено было «в каком-то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле» «исчезнуть», «раствориться» в своих книгах, а Набокову, совершив мучительную метаморфозу, возникнуть вновь в образе американского писателя. С прежним «В. Сириным» было покончено, однако «В. Шишков», под чьим паспортом он перешел в эту новую область, умолк не окончательно.
На этом наш пространный комментарий к «Поэтам» с вылазками в со- и запредельные области можно было бы и закончить: критик проучен, герой увенчан, поэт удалился, когда бы вопреки апофеозу и падению занавеса у этой истории не следовало продолжение.
«Было бы очень жаль, если бы беглец Шишков оказался существом метафизическим, – писал Адамович после выхода рассказа, все еще не желая верить, что новый поэт выдуман Сириным. – Было бы большой отрадой узнать другие его сочинения и убедиться, что умолк он не окончательно» [139] Адамович Г. Литературные заметки // Последние новости. 1939. 22 сентября. С. 3. Цит. по: Шраер М. Д. Темы и вариации. С. 233.
. Как бы в ответ на эту просьбу Набоков в марте 1940 года публикует второе стихотворение из «хорошей» шишковской тетради («Обращение») и затем сочиняет еще два, подписывая их именем Василия Шишкова, которые Адамовичу узнать уже не пришлось.
Хранящиеся в нью-йоркском архиве Набокова неизвестные стихотворения Василия Шишкова не датированы. Однако одно из них, как следует из его содержания, было написано уже в Америке, по меньшей мере два года спустя после появления «Поэтов».
Не знаю, чье журчанье это —
ручьев, сверчков, зверей ночных…
Вся ночь поет взамен ответа
волненью дум заповедных.
Как быть? Поверить ли, что правом
на битву преображена
в сей битве с варваром кровавым,
подобной праведным державам,
вдруг стала грешная страна?
Иль говорок избрать особый,
шутить, чтоб не сойти с ума…
в садах, впотьмах, в боях… должно быть[,]
журчанье это – жизнь сама.
Иль уповать с любым бараном,
что чуждые полки пробьют
историю своим тараном
и бравый царь с лицом румяным
из бреши выйдет тут как тут?
Иль возопить: восстань, Россия,
и двух тиранов сокруши!
– Мессия… как еще? «стихия» [140] Набоков иронизирует над обязательными рифмами к слову «Россия» в гражданских стихах, например, у Андрея Белого в «Родине» (1917) или у Бунина во «Дне памяти Петра» (1925).
,
о, бедные мои, немые,
не мыслящие камыши…
Как вас там гнет, и жжет и ломит,
в каком дыму, в аду каком…
Тих океан и тихо в доме,
я ничего не слышу, кроме
журчанья ночи за окном.
Стихотворение написано чернилами на листе бумаге с черновиком этого же стихотворения, без деления на строфы. Вариант строк в пятой строфе: «о, бедные мои, родные»; вариант последних строк: «я ничего не слышу, кроме / неровной рифмы под пером» (что напоминает отвергнутую строфу «Поэтов»).
Вероятнее всего, Набоков написал эти стихи вскоре после нападения Германии на СССР. Предположение исходит из биографических сведений: 26 мая 1941 года Набоковы выехали из Нью-Йорка на автомобиле в Калифорнию и прибыли в Пало Альто 14 июня. Там они сняли дом рядом с кампусом Стэндфордского университета, недалеко от тихоокеанского залива, где прожили до 11 сентября 1941 года [141] Бойд Б. Владимир Набоков. Американские годы. Биография. СПб.: Симпозиум, 2010. С. 37–44.
и где, следовательно, узнали о начавшейся войне с Россией [142] Ср. в недатированном письме Набокова к Алданову, посланному из Пало Альто: «А вот как это страшно и вместе с тем художественно – двадцатипятилетние мечты о „свержении“ – и вдруг этот чудовищный фарс, – прущая погань в роли „освободителей“ и бедные не мыслящие камыши в роли „защитников культуры“» (Цит. по: Набоков В. Переписка с Михаилом Карповичем (1933–1959). Библиотека «Литературного наследства». Новая серия. Вып. 2 / Вступ. ст., сост., примеч. А. Бабикова. М.: Литфакт, 2018. С. 86).
. Это было первое путешествие Набокова к побережью Тихого океана, полное энтомологических и дорожных впечатлений, вошедших впоследствии в «Лолиту». В последней строфе, в словах «Тих океан», Набоков завуалированно указал на место их сочинения – на другом берегу континента, у вод Тихого океана. Таким образом, место и время создания этого нового стихотворения Василия Шишкова предположительно устанавливаются следующие: Пало Альто, июнь-сентябрь 1941 года.
Стихотворение продолжает линию гражданской лирики в двух первых опубликованных стихотворениях Шишкова, с их обращением к России и к редеющей эмиграции, и вновь вызывает в памяти пушкинские мотивы (заявленные, как мы помним, уже в самом выборе псевдонима): строчка «В садах, впотьмах, в боях…» напоминает пушкинское «И где мне смерть пошлет судьбина? / В бою ли, в странствии, в волнах?» («Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 1829). В то же время, как и в «Поэтах», пушкинский подтекст дополняется отсылкой к Ходасевичу. В строке «в каком дыму, в аду каком…» Набоков перефразировал концовку его «Элегии» (1922): «И не понять мне бедным слухом, / И косным не постичь умом / Каким она там будет духом, / В каком раю, в аду каком» [143] Благодарю за это указание В. В. Зельченко (частное сообщение). Ю. И. Левин обнаружил в «Элегии» Ходасевича реминисценции из «Проблеска» Тютчева и пушкинского «Поэта» и указал на акцентную цитату из него – «равéнство» ( Левин Ю. И. О поэзии Вл. Ходасевича / Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: «Языки русской культуры», 1998. С. 217).
.
Интервал:
Закладка: