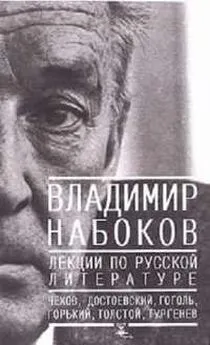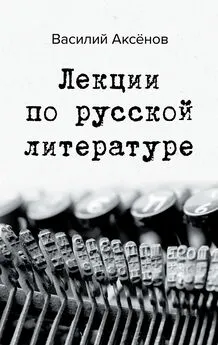Дмитрий Быков - Лекции по русской литературе XX века. Том 1
- Название:Лекции по русской литературе XX века. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 1 редакция (9)
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-04-102556-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Лекции по русской литературе XX века. Том 1 краткое содержание
Эта книга – первая часть четырёхтомника, посвящённого русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить.
В первый том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Чехов, Горький, Маяковский, Есенин, Платонов, Набоков и другие.
Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга.
Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».
Лекции по русской литературе XX века. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И вот там есть такой Белозёров, актёр императорских театров, который при любой власти устраивается, но особенно льнёт к большевикам, он там устраивает театральный отдел. И его душевная тучность, жирность, его душевная абсолютная отделённость от людей, его страшная душевная глухота становятся залогом того, что эта ожиревшая душонка при красных преуспевает. А главная особенность деятельности красных там тоже очень точно выведена, когда они сразу начинают лютую бюрократию, они всё стараются формализовать. Они устраивают тут же отдел театральный, культурный с какими-то подотделами, они пытаются формализовать медицину, сельское хозяйство, всё у них тут же какие-то записи, выписи и черточки, документики, то есть всё немедленно погрязает в море бюрократии. Ну как невежественный человек, дорвавшийся до управления, как он может создать иллюзию управления? Он начинает писать бесконечные директивы. Об этом же, кстати, очень точно говорит Пастернак в «Докторе Живаго», он говорит, что революция была живое дело, а язык директив был мёртв, и это был язык каменный, казённый. И вот абсолютно точно это почуял Вересаев. Конечно, после 1923 года его роман не мог бы быть напечатан. Да, понятно, что белые изжили себя, да, понятно, что белых все ненавидят, им никто не сочувствует. Но понятно и то, что на смену им пришла мёртвая материя, и поэтому роман «В тупике» – это роман о тупике приличных людей, которым в 1922 году некуда податься, им некуда деться.Это роман, в котором обозначен совершенно чётко предел той России. А какой оказалась новая Россия, мы знаем. Может быть, она и была жива только в той степени, в какой в ней сохранялось что-то от прежнего. Но всё это обречено, всё это так страшно заканчивается.
Может быть, именно поэтому книга эта, мало понятая современниками, оказалась последним большим художественным произведением Вересаева. Всё, что он писал после этого, было либо мемуарными очерками, либо правлеными переизданиями старых, очень талантливых «Записок врача». Почему эта книга не получилась так сильна, как сильна была историческая фактура, её породившая? Почему она несколько слабее того же «Солнца мёртвых» Шмелёва, которое написано после смерти сына и продиктовано ужасом и отчаянием после этого? Сын Шмелёва был расстрелян просто потому, что это был белый офицер, он поверил обещаниям красных, пришёл регистрироваться, а всех белых офицеров расстреляли немедленно, и конечно, Шмелёв этого не прощает, поэтому его книга проникнута такой болью и ужасом, ненавистью. А почему этого нет у Вересаева? Вересаев довольно точно говорил про Леонида Андреева, он хорошо его знал, он говорил, что вот Леонид Андреев не был на войне 1904 года и написал «Красный смех», а сам он был и ничего столь истерического писать не смог, потому что он, как военный врач, оперировавший под пулями, перевязывавший под пулями, он знает, что на третий день привыкаешь, душа зарастает какой-то коркой. А у Андреева она не зарастала, поэтому он, даже не будучи на фронте, написал такой кровавый и мясной текст «Красный смех». Так вот Вересаев – действительно очень здоровый человек, поэтому в его страшной книге нет настоящей экспрессии, а есть честность и здравомыслие. Но честности и здравомыслия для великой литературы недостаточно, поэтому эта книга для нас скорее прекрасное свидетельство, скорее памятник эпохи, нежели памятник словесности.
Да, тут поступили вопросы, как я отношусь к биографическим трудам Вересаева, а именно к «Пушкину в жизни»?
Вы знаете, что очень многие ругали эту книгу за то, что Пушкин в жизни там есть, а лирики там нет, нет Пушкина-гения. Это неправда. Просто советское литературоведение очень боялось всякой сальности, всякой живой ноты, всякой живой души, поэтому им надо было показывать Пушкина-антикрепостника, Пушкина-декабриста, а Пушкина – отца незаконного ребёнка ему не надо было показывать, а Пушкина на пирушке или Пушкина в диалоге с Николаем не надо было показывать. Ну, это как бы принцессы не какают. Так вот соответственно и Пушкин, он не жил, а он только писал. Вересаев выправил этот перелом. И хотя его книга с 1937 года, к столетию смерти Пушкина, очень долго потом не переиздавалась, но если б вы знали, какой это был раритет и как её на три дня, на три ночи давали. Я думаю, что Вересаев внёс великий вклад в пушкинистику, собрав небывалый свод мемуарных свидетельств, и мало того, что это была каторжная и великая работа, прелесть этой работы в том, что она всё-таки о творчестве тоже. Пушкин показан там творцом, вопреки эпохе. И впоследствии именно эта концепция творить вопреки жизни вдохновила, скажем, Тарковского на «Рублёва». Я думаю, что, как это ни парадоксально, но книга Вересаева – это книга того же значения.
Исаак Бабель
«Конармия», 1924
Мы попробуем поговорить о 1924 годе, а именно о серьёзном литературном дебюте Бабеля. Настоящий дебют его, мало кем замеченный, кроме тогдашних блюстителей нравственности, состоялся в 1916 году в журнале «Летопись», когда рассказы двадцатидвухлетнего Бабеля напечатал Горький. И тут же Бабелю был вменён иск за порнографию. Но поскольку революция произошла год спустя, никаких последствий для него это не имело.
Первая заслуживающая внимания его публикация, куда вошли лучшие рассказы «Конармии», в том числе знаменитая «Соль», осуществилась в «ЛЕФе» с подачи Маяковского. Маяковскому в 1924 году в Одессе показали бабелевские рассказы, он необычайно проникся, до такой степени, что обожал читать его вслух. Пьесу «Закат», по воспоминаниям Павла Лавута, он читал вслух при первой возможности. Оказывался в купе с приятелем – читал ему, заманивал гостей в Гендриков – читал им. Точно так же он несколько раз читал со сцены рассказ «Соль», который поражал его точностью в передаче интонаций. Он наслаждался самой фактурой бабелевского слога, удивительной, несколько карикатурной и шаржированной, но тем не менее абсолютно точной речевой маской страшного красноармейца Никиты Балмашева, который в рассказе «Измена» призывает всех подозрительных расстреливать: «измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому». А вот в рассказе «Соль» он расстреливал спекулянтку: «И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики».
Бабель вообще замечателен этой абсолютной драматургической точностью и пластикой воспроизводства чужой речи, но именно это чаще всего отвлекает наше внимание от действительно грандиозных проблем, которые он ставит. Собственно говоря, как характеризуют у него Беню Крика: Беня говорит мало, но смачно, хочется, чтобы он сказал что-нибудь ещё. Точно так же и Бабель говорит смачно, и мы за красотой, за совершенством его прозаической пластики забываем о том зверстве и кошмаре, который он рисует.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: