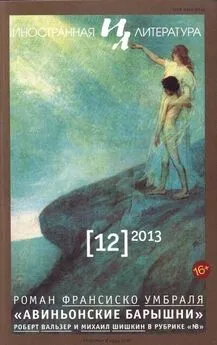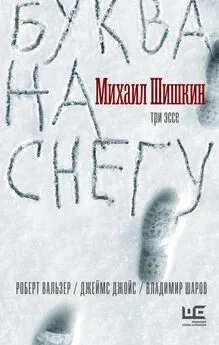Михаил Шишкин - Буква на снегу [litres]
- Название:Буква на снегу [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2019
- ISBN:978-5-17-116180-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Шишкин - Буква на снегу [litres] краткое содержание
“При жизни их понимали и любили лишь немногие ценители настоящей литературы. Большая жизнь их книг началась только, увы, после смерти. Так было с Вальзером и Джойсом. Не сомневаюсь, так будет и с Володей Шаровым. Для определения истинной величины таких авторов нужно расстояние. Я пишу о тех писателях, которые мне дороги и важны. Название «Буква на снегу» взято из концовки эссе о Вальзере. Мертвого писателя нашли дети на рождественской прогулке, его тело лежало на снегу, как буква нездешнего алфавита. Писатели становятся буквами, а буквы не знают смерти” (Михаил Шишкин).
Буква на снегу [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Плехановском институте ты устроил антисоветскую акцию, организовал забастовку. По ломанию судьбы “шибко умным” юношам они мастера. Прецедентов достаточно. А твое дело замяли. Снова повезло, могло бы быть иначе.
Еще колоссальное везение – историк Александр Немировский взял тебя в свой воронежский ковчег. И опять ты успел проплыть на том корабле несколько важных лет, пока с твоим профессором не расправились. Кончилось тем, что ученогоантичника сняли с заведования кафедрой истории Древнего мира и выгнали из партии “за пропаганду Древнего мира”, при этом его еще объявили главой сионистского подполья города Воронежа.
Всё, что нужно знать о советском образовании, – твой рассказ, как в университете Воронежа сжигали книги. В библиотеке не хватало места для новых поступлений – освобождали полки для собраний сочинений Брежнева. Ректор издал приказ сжечь большую часть античной коллекции библиотеки. Тысячи томов, в основном на латыни. Никто из работников библиотеки латынь не знал. Дюжины инкунабул, напечатанных в венецианских, флорентийских и падуанских типографиях. Фолианты на пергаменте. Уникальные экземпляры, драгоценные для мировой культуры, но ненужные для советского вуза. Так и вижу эту картину: несколько огромных костров – горят тысячи и тысячи книг, и вокруг каждого – милиция, чтобы никто не мог выхватить том из огня и унести домой. И вы кругом – студенты-историки со своим профессором, который пытается прорваться сквозь кордон и спасти хоть что-то.
В конце концов в крепостной стране ты смог стать вольным хлебопашцем – зарабатывал деньги репетиторством. Это и была твоя “глухая провинция у моря”. Ты был независим и писал свободно – в стол. В свободном мире столько авторов мечтает о том, чтобы быть свободным писателем, работать над книгой, не заботясь ни о тиражах, ни о мнении критиков, а ты всегда, с самого начала был им.
Возвращаюсь в Лексингтон. Вы с Олей говорили, что зима там теплая. Вам повезло. Дом для настоящей зимы был совершенно неприспособлен, из щелей в рамах дуло, батареи еле теплились, рефлектор не спасал. В мою зиму Вирджинию завалило снегом, стояли подмосковные холода.
Приходилось кипятить воду во всех кастрюлях, какие нашлись на кухне. Накрыв крышками, расставлял их на полу вокруг кровати. На какое-то время действительно помогало, а к утру квартиру выстуживало.
Очень хорошо помню, как одной такой кастрюльной ночью вдруг ощутил себя в концовке “До и во время”. Не знаю уже, по какой цепи ассоциаций. Там у тебя старики уходят в снегопад, а Федоров и мадам де Сталь остаются в застуженном здании больницы. И что было с ними дальше, ты не рассказываешь, потому что роман уже кончился. Но, как всем хорошо известно, слово “конец” ничего не говорит, а герои, уходя со сцены, не исчезают, а продолжают жить, что-то делать. Мерзнуть, например. И очень хорошо представил себе, как они не могут заснуть от холода, идут на кухню, наполняют кастрюли водой, ставят на огонь, кипятят, несут в комнату, залезают в ледяную постель. А им не спится, и вот они лежат в ковчеге в ожидании потопа и смотрят на запотевшие от кипятка окна.
В 16-м году ты получил стипендию в Лавиньи. Писательская резиденция расположилась в бывшем поместье издателя Хайнца Ледиг-Ровольта, расположенном над Моржем, недалеко от Женевского озера. Пять-шесть авторов живут в старинном шато по месяцу на всем готовом и имеют возможность спокойно писать. За несколько лет до этого я тоже там был, работал над романом “Венерин волос”, и ко мне в Лавиньи приходила Изабелла Юрьева, любимая певица моего отца, прожившая сто лет, весь русский нечеловеческий двадцатый век, и говорившая в одном интервью, что у нее погиб ее единственный ребенок, мальчик, а в другом – что у нее погиб ее единственный ребенок, дочка. А ты работал над “Царством Агамемнона”, и к тебе приходили Электра в старушечьем платке, продававшая свечки в церкви в Левшинском, и расстрелянный Гавриил Мясников, написавший трактат “Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова”, и разговор сервантеcовcкого Росинанта и платоновской Пролетарской Силы из “Чевенгура”.
Я жил и работал в комнате, где находилась огромная личная библиотека Ледиг-Ровольта. Мне нравилось сидеть с лэптопом в глубоких прохладных кожаных креслах, в которых хозяин беседовал с Набоковым, жившим неподалеку и часто навещавшим своего издателя и друга. Кресла делали глубокий бормотливый выдох, когда в них садились. Время от времени я испытывал ощущение присутствия, будто кто-то стоит за спиной, но объяснял себе это сотнями подписанных книг на полках. Непрочитанные книги мертвы, а прочитанные и особенно подписанные оживают. Книги, как собаки, ничего не знают о смерти, просто ждут возвращения хозяина.
Среди писателей, живших со мной в шато, был романист из Панамы, импозантный седокудрый кабальеро, всё делавший не спеша и с достоинством. Мы как-то сидели с другими писателями на террасе, смотрели на закат над Леманом, пили chasslas c местных виноградников в ожидании ужина, когда панамец выскочил к нам ошалелый, взъерошенный, с круглыми глазами и сбивчиво стал рассказывать, что открыл дверь из коридора в свою комнату и вдруг увидел, как кто-то стоит за столом и смотрит его записи. С испугу он захлопнул дверь, а когда снова открыл, никого в комнате уже не было. Наша хозяйка, внучка русского эмигранта из Санкт-Петербурга, уже ни слова не говорившая по-русски, воскликнула, хлопнув себя по коленкам: “I’ve been waiting for that!” Оказалось, что в шато обитают духи и являются каждому поколению стипендиатов.
Издатель купил этот замок в семидесятых, чтобы провести в этом раю старость. Хайнц Ледиг-Ровольт умер в возрасте 84 лет во время путешествия по Индии. Его вдова Джейн провела после смерти мужа в Лавиньи в одиночестве полтора года, пока не покончила с собой. Она завещала дом фонду, который приглашал бы сюда писателей, но с условием ничего из обстановки не менять.
Панамский романист спал в той самой постели, в которой Джейн убила себя. В этой же комнате жил теперь и ты. Неизвестно, бродят ли по шато именно Ровольты или призраки обитали в старинном здании еще до них. На мой вопрос о привидениях ты ответил, что никто к тебе не являлся, а кровать бесконечно роскошна. Это было одно из твоих любимых словечек – бесконечно. Ничего удивительного нет в том, что твои герои распугали швейцарских духов. Ведь вместе с тобой в шато Лавиньи поселились и Агамемнон, царапающий, как курица лапой, доносы на собственную дочь, которые та прилежно переписывает для следователя, и чекист Жужгин, отмывающий руки, измазанные кровавым бельем великого князя Михаила. И вот эти строчки: “В людях накопилось чересчур много зла; чтобы нас отмолить, спасти, божий мир должен до краев наполниться благодатью. То есть необходимы тысячи тысяч новых святых и великомучеников. Государство, которое заставляет нас давать показания на будущих невинно убиенных, и мы, которые их даем, сообща творим эту искупительную жертву”. Куда уж страшней?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Михаил Шишкин - Буква на снегу [litres]](/books/1081653/mihail-shishkin-bukva-na-snegu-litres.webp)