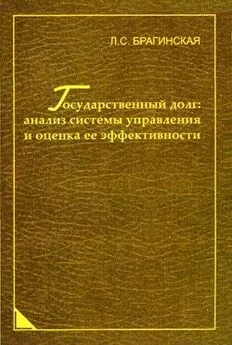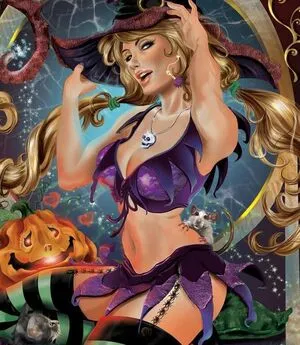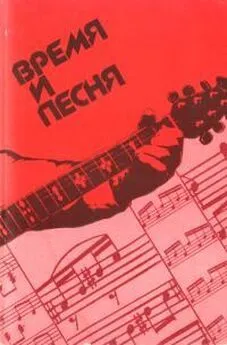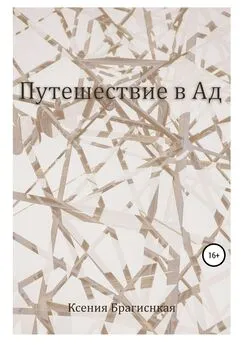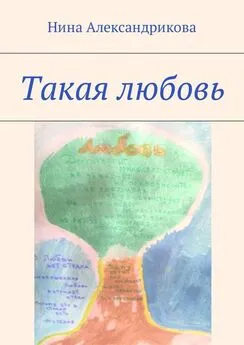Нина Брагинская - Кто такие мирмидонцы?
- Название:Кто такие мирмидонцы?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Брагинская - Кто такие мирмидонцы? краткое содержание
Кто такие мирмидонцы? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Слово « мирмидонцы » не является производным от μύρμηξ (муравей), но не случайно многие мифы о муравьях и муравьином народе «подключены» к истории мирмидонцев, к их происхождению. В мифологической перспективе их образы сближаются так же, как сближаются этимологически μυρμηκες и μυρμιδόνες.
Обратимся теперь к внутренней форме слова Μυρμιδόνες. Путь уже намечен Кречмером, который писал: «Μυρμιδών относится к лат. formido [страх, ужас ], так же как μύρμηξ к лат. formica [ муравей ], сюда же относится μυρμος· φόβος, Hesych.» (см. наше примечание 1). Приведя глоссу μύρμος, которая поясняется как страх (φόβος), Кречмер делает вывод, что мирмидонцы – это «народ (все-таки «народ»! – Н.Б.) ужасных призраков». Их хтонический характер тем более понятен Кречмеру, что он сопоставляет Фтию с φθίνω – уничтожаю и φθίμενοι – умершие, мертвецы , и понимает лжетопоним как имя страны мертвых. Последнее достаточно сомнительно [11] Фтия как страна мертвых выступает в известном пассаже из «Критона» (44 ab). Сократ рассказывает о сне, в котором ему явилась женщина и произнесла стих из «Илиады» (I. 363): «...на третий день прибудешь в многохолмную Фтию». Это означает для Сократа, что его казнь произойдет не ранее, чем на третий день. Однако несомненная игра на созвучии слов Φθία – φθίμενοι не означает еще их этимологического родства.
, но сопоставление μυρμιδών с лат. formido и глоссой μύρμος мы надеемся развить и дополнить, чтобы обнаружить «изоморфность» семантического поля слов с основой на mor-/myr- и mormyr- и комплекса мифов о мирмидонцах, хтонических перволюдях и муравьином племени.
Прежде всего следует сказать, что mor- и myr- это фонетические варианты, а слова с основой на mormyr- получены редупликацией (ср. лат. murmur – ворчание, шум , санскр. marmaras – шуршащий ); формы на morm- или myrm- – усеченные варианты этих редупликаций. Мы рассмотрим далее лексемы со всеми этими основами.
Группа слов на mormyr-, и myr- связана с бурлящей, кипящей, шумно, быстро движущейся водой, и такие слова встречаются уже у Гомера (II. 5. 599, cp. 21. 325, 18. 403). Сюда же относятся полученные нехитрым перенесением названия различных рыб (Athen. VII. 313 e sq.). Шантрен [12] Chantraine , p. 712.
сравнивает μορμύρειν ( кипеть, бурлить ) с μύρειν ( течь ) и μύρεσθαι – обычно лить слезы, печалиться , но часто литься, течь о реках (Lyc. 972, Apol. Rh. II. 372); ἁλιμυρήεις – море-текущие говорится о реках, впадающих в море (II. 21. 190, Od. 5. 460), а Аполлоний Родосский (I. 913), «слыша» в гомеровском слове шум кипящей воды, применяет тот же эпитет ἁλι-μυρής к скале, о которую разбиваются морские волны. Удвоение mormyr, видимо, имеет усилительный смысл. Гомеровское μορμύρειν Гесихий поясняет так: «возмущение, вскипание пеной, говорится главным образом о реке с сильным течением». Ἀναμορμύρεσκε сказано у Гомера не об обычном течении, а о самой Харибде, когда она уже закружила и всасывает водоворот (Od. 12. 238). О страшном кипенье воды говорит и соответствующий контекст Аполлония Родосского (δεινόν μορμύρειν, I. 543). Движение и шум в семантике слов на mormyr синэстетически объединены как шумное, бурное движение (ср. ἐπιμορμύρω – шуметь как волна , Dion. Per. 82), главным образом воды, т. е. объема, лишенного собственного членения на части. Форма μορμύρει поясняется у Гесихия как «производить шум» (ποῖον ἦχον ἀποτελεῖ), «смешивать, волновать (воду)», переносно также «пугать» (ταράσσει), далее «наводнять» (πλημμυρε6ι) и «делать что-то необычным, устрашающим образом» (δεινοποιεῖ); cp. также μορμυρίζω. Переносно слова этой группы обозначают эмоцию, нечто происходящее в душе, в основном – смятение (μορμύρειν θυμῷ, Maneph. 5, 118), возмущение, негодование (μορμύσσεσθαι· ἐμβριμᾶσθαι, Hesych.), страх (μορμύνεῖ δεινοποιεῖ, Hesych., а δεινοποιεῖ означает, в частности, «пользоваться устрашающими выражениями», Porph. Adv. chr. 30, ср. выше μορμυρεῖ=ταράσσει). Кроме того, страх, вызываемый бурным волнением воды или даже с ним отождествляемый, является, по-видимому, устойчивой коннотацией.
Лексемы другой группы, с преимущественной семантикой страха, как правило, имеют усеченную основу – morm- или myrm- (хотя есть и полные формы: и μόρμορος и μορμυραῖα, по Гесихию, страх ) [13] Μόρμη – пугающая, неприятная (Hesych.), μόρμοι – пустые страхи (Hesych.); μορμολύττομαι (= μορμορύζω, Phot. = μορμύσσομαι, Call. Dian. 70, Call. Del. 297) – пугать (Arph. Av. 1245; Plat. Crit. 46 c; Xen. Symp. IV. 27), μορμολύττεται – боится (Hesych., cp. [Plat.] Axioch. 364 b), μορμύνει – страшит (Hesych.), μορμύρει – одно из значений также страшит (Hesych., см. выше о кипенье воды); μορμωτός (как производное от незасвидетельствованного глагола μορμόω) – пугающий (Lyc. 342); μορμορώπος – жуткий, отвратительный (Arph. Ra. 925); μορμολυκεῖον – чудовище , страшило, пугало (Arph. Thesm. 417, Plat. Phaed. 77 e, Socr. ap. Arr. Epictet. 2.1.15, Gal. Protr. 10), μορμολυκεῖα – страшилища , применяется к чудовищным трагическим и комическим маскам, которыми, например, украшен театр Диониса (Arph. fr. 131 Kock, cp. fr. 31), μορμολυκτική – устрашающая (Hesych.); μορμολυκη, λυκα = μορμολυκεῖον (Sophr. 9. Kaibel, Strabo 1.2.8), а также μορμολυκία (Phil. VA 4. 25) – «нежить» женского рода, упырь или эмпуса , сотворяющая морок красоты и пожирающая своих возлюбленных; Μορμώ или Μορμών – чудище женского рода, которым няни пугали детей так же, как Ламией [dub. in Erinn. in PSI 9.1090.51+11 (p. XII), Xen. Hell. IV. 4. 17, Luc. Philops. 2], в целом пугало, устрашение (Arph. Ach. 582, Arph. Pax 474, Arph. Eq. 693).
. К лексике, приведенной в примечании 13, мы хотели бы добавить те случаи, когда очевидны хтонические коннотации страха: Мормо – античная Бука, чудище, которым, как и Ламией, пугали детей [14] См. Luc. Philops. 2, Hesych. s.v.; ср. Arph. Ach. 582, Arph. Pax 474.
, может отождествляться с Гекатой (Hippolyt. ref. haer. p. 73), Мормолика – имя сказочной кормилицы Ахеронта (Stob. ecl. I. 49, p. 419, 17–18 Meineke), а место из Ксенофонта (Xen. Hell. IV. 4, 17), где говорится о воинах, боящихся пелтастов, как дети боятся Мормон, Гесихий поясняет следующим образом: «мормоны – это блуждающие демоны» (πλάνητας δαίμονας). В подобных страшных блуждающих демонах сравнительная этнология учит видеть что-нибудь наподобие душ заложных покойников.
Термин μύρμηξ или μύρμος – муравей – не имеет общепризнанной этимологии, хотя во многих индоевропейских языках, включая русский, это насекомое носит имя, которое может быть возведено к корню mur-/momr- (c различными огласовками). Курциус писал, что этот корень нигде не обнаруживает себя в глаголе, но можно было бы ожидать для него значение «роиться», и относил сюда же слово μυρίοι [15] Curtius G. Principles of Greek Etymology. 5 ed., L., 1886. V. II, p. 408 (338).
. Соотнесение с μυρίοι представляется нам очень интересным, а относительно глагола мы позволим себе высказать далее свои предположения. Итак, μυρίοι обозначает очень большое число и специально 10 000. Такое значение не могло, конечно, быть исходным. Прежде чем стать числительным, слово характеризует не столько счетные множества, сколько «бессчетные», и вообще «объемы», как например, μυρίοις ὄνος – огромный осел (Od. 15. 452). Часто μυρίοι используется для описания неисчисляемых «количеств», так сказать псевдоколичеств и «объемов психики», психических состояний: сильной, «великой» скорби, боли, печали, траура (II. I. 2, 18. 88, 20. 282, 24. 639). Шантрен предполагает, что μυρίοι восходит к экспрессивному слову со значением «vaste comme les flots de la mer», и сравнивает μυρίοι с μύρομαι, πλήμυρα, ἁλιμυρήεις [16] Chantraine, p. 723.
. Таким образом, мы возвратились к семантике первой описанной нами группы, связанной с бурным движением и кипением воды. Возможно это и есть «следы» того глагола со значением «роиться», «кишеть», которого недоставало Курциусу [17] Сознательно или нет, Курциус мог иметь в виду немецкий глагол kribbeln – «кишеть», и в то же время «зудеть», «чесаться» (ср. ein kribbeliges Gefühl – «мурашки»), семантика которого исключительно «подходит» для гипотетического греческого глагола, а как параллельный семантический комплекс подкрепляет наши дальнейшие рассуждения.
. Кишащее (кипящее, бурлящее) множество как внутренняя форма термина мирмек для обозначения мелких насекомых, живущих большими колониями, вполне понятна. Между тем это, видимо, не единственная реализация исследуемого семантического инварианта в форме μύρμηξ. Тем же словом назывались, кроме того, подводные скалы, скорее всего из-за кипения над ними бурунов. Правда, Геродот (Hdt. 7. 183) говорит о конкретной скале, носящей имя Мирмек. Нельзя однако не заметить, что подводных камней с таким странным именем многовато (ср. Lyc. 878, Plin. HN 5. 119: scopuli myrmeces); и, наконец, у Гесихия (s.v. μύρμηκας) мы находим то же слово уже в качестве не собственного, а нарицательного имени. Другое дело, что уже в античности родовое имя мирмек («кипун») для подводных камней могло осмысляться как индивидуальный топоним «Муравей» (так и современные переводчики античных авторов «узнают» в камнях-мирмеках Муравья). В скалах-мирмеках тем более нет нужды видеть «муравьев», что обозначение самого этого насекомого не привязано жестко к основе с суффиксом ἐκ-. В дорийском диалекте муравей – это μυρμηδών, то же слово, а не производное от μύρμηξ, обозначает, по Гесихию, и муравейник . Наконец, у Ликофрона и муравей , и подводная скала – совсем не μύρμηξ, а μύρμος (176 и 890).
Интервал:
Закладка: