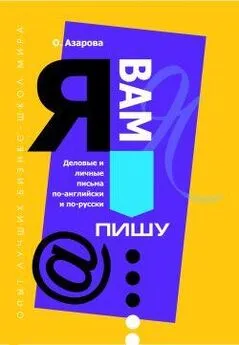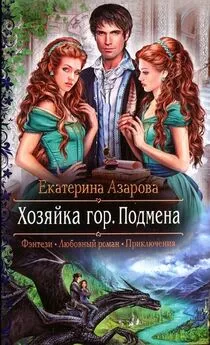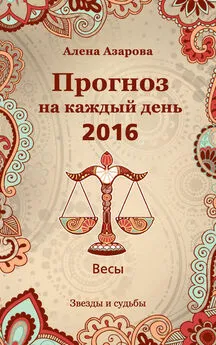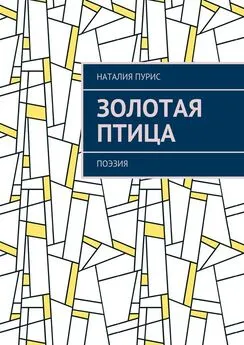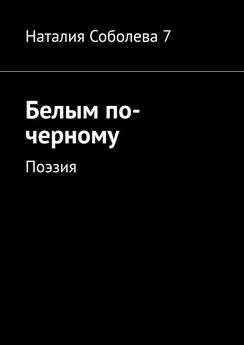Наталия Азарова - Поэзия. Учебник
- Название:Поэзия. Учебник
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ОГИ (Объединенное гуманитарное издательство)
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 978-5-94282-782-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Азарова - Поэзия. Учебник краткое содержание
Поэзия. Учебник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С течением времени новаторство обретало самостоятельную ценность. Сначала появлялись произведения, в которых нарушались общепринятые правила письма, — таких произведений со временем становилось все больше и больше, хотя поэты и их читатели по-прежнему считали, что правила важны даже несмотря на то, что они постоянно нарушались. Среди таких стихов, например, торжественные оды Державина, обращенные к Екатерине II, которые конфликтовали со многими ожиданиями читателя конца XVIII века, привыкшего к более строгой оде Ломоносова (18.2.2. Ода).
Державин мог прервать восхваление императрицы (а именно оно считалось основным в оде), чтобы сравнить ее повседневную жизнь со своей собственной:
***
Мурзам твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом;
Не дорожа твоим покоем,
Читаешь, пишешь пред налоем
И всем из твоего пера
Блаженство смертным проливаешь;
Подобно в карты не играешь,
Как я, от утра до утра. [111]
Такие контрасты должны были сделать образ Екатерины еще ярче, но у современников все равно вызывали удивление тем, что поэт так много говорит о себе.
Постепенно известная всем система правил ушла в прошлое, но ее место заняла привычка читателя к определенному (более традиционному ) виду поэтического письма. Такое положение дел вело к тому, что многие элементы стиха начинали употребляться автоматически, без понимания того, зачем они нужны и какую роль играют в тексте. Когда футуристы в манифесте «Пощечина общественному вкусу» провозгласили, что Пушкин непонятнее иероглифов, — они имели в виду, что старая поэзия стала восприниматься некритически и бездумно, как нечто само собой разумеющееся. Такая автоматизация была осознана как универсальное явление: от частого употребления любые элементы произведения изнашиваются, входят в привычку и требуют обновления — замены или пересмотра.
Уже в конце XVIII века Иван Дмитриев смеялся над сочинителями од, произведенных по одному и тому же шаблону:
***
Он тотчас за перо и разом вывел: ода!
Потом в один присест: такого дня и года !
«Тут как?.. Пою! .. Иль нет, уж это старина!
Не лучше ль: Даждь мне, Феб! .. Иль так: Не ты одна
Попала под пяту, о чалмоносна Порта!
Но что же мне прибрать к ней в рифму, кроме черта?
Нет, нет! нехорошо; я лучше поброжу
И воздухом себя открытым освежу». [112]
В XIX веке мир стал очень быстро меняться, и многие поэты вдохновлялись этими изменениями — техническими новшествами, доступностью любой точки земного шара и теми аспектами жизни человека, изображение которых в поэзии ранее казалось немыслимым (например, связанных с телесностью). Поэзия этого времени стремилась к решительному обновлению формы и изобретению нового поэтического языка, который соответствовал бы новому мышлению, мышлению своей эпохи. Все это верно и для современной поэзии.
Поэт ХХ века мог смотреть на стихотворение как на систему запретов или как на систему открытых возможностей: первый способ был характерен для «старой» поэзии, второй — для «новой». Для первых поэтов решающее значение имело то, о чем нельзя писать, — список запретных тем, приемов, способов письма. Вторые поэты считали, что в поэзии возможно все, если только это позволяет поэту достигнуть поставленной цели. Первые поэты считали, что в любые времена и эпохи поэты имеют дело с одним и тем же набором поэтических средств и приемов; вторые полагали, что средства и приемы меняются вместе со временем. Разумеется, это деление очень условно, и в реальности все гораздо сложнее: для конкретного поэта что-то одно может быть запретным, а что-то другое, напротив, требовать расширения и т. д.
Поиски нового протекали в разных направлениях — и поэты-новаторы начала ХХ века отличались не только от своих предшественников, но и друг от друга: достаточно сравнить, например, Велимира Хлебникова и Осипа Мандельштама, Николая Гумилева и Сергея Есенина. К концу ХХ века у поэтов, склонных не к открыванию новых путей и испытанию новых возможностей, а к тому, чтобы действовать по уже готовой схеме, — появилась не одна готовая схема (как в XIX веке), а много. Поэтому авторы, которые сегодня осуществляют футуристическую ломку языка, уже осуществленную до них, могут выглядеть столь же консервативными, как и те, что воспроизводят психологическую лирику середины XIX века.
Традиция — это не только набор старых и бессмысленных правил, существование которых не оправдывается поэтической практикой: на самом деле все профессиональные поэты работают внутри традиции. Даже футуристы, призывавшие к разрушению традиционной поэзии, на самом деле не разрушали, а изменяли и обновляли ее. Такие обновления делают традицию живой и позволяют ей развиваться.
Начиная с Серебряного века и поэты, и читатели постепенно осознают, что традиция — не едина, что внутри нее существует набор частных традиций — «пушкинская» и «некрасовская», футуристическая и акмеистическая, метареалистическая [7] Метареализм — направление в русской поэзии конца XX века, нацеленное, в противоположность концептуализму, на поиск гармонии между различными реальностями: предметной, идейной, культурной, эмоциональной. Метареализм фокусирует внимание на бесконечном множестве взаимосвязей между элементами мироздания, в связи с чем особенно интенсивно пользуется метафорой и другими тропами. Ведущие поэты-метареалисты — Алексей Парщиков и Иван Жданов, иногда к метареализму относят творчество Аркадия Драгомощенко.
и концептуалистская, и между этими традициями развиваются долгие и сложные отношения, взаимодействия и взаимоотталкивания. Какие-то поэты склонны чувствовать связь только с одной из таких частных традиций, другие готовы опираться сразу на несколько, даже если они выглядят противоречащими друг другу.
Например, к диалогу одновременно с акмеистической и футуристической традицией уже в 1930-е годы вел поэтический опыт Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Марины Цветаевой. В 1960-е годы сходный метод сталкивания, скрещивания различных традиций по-разному использовали Иосиф Бродский и Леонид Аронзон.
Для поэзии начала ХХI века такое совмещение также характерно: например, поэт Игорь Булатовский начал свой творческий путь как продолжатель петербургской ветви акмеизма, развивавший ритмические и строфические аспекты этой поэзии, — для него был характерен правильный литературный язык, внимательное отношение к русскому и мировому культурному наследию и т. д. Затем он заинтересовался поэзией русских конкретистов [8] Конкретизм — направление в русской по эзии середины XX века. В центре внимания конкретистов — живая речь (разговорная или внутренняя), оказывающаяся убежищем от эстетической, культурной, идеологической традиции, воспринимаемой как источник неискренности и фальши. Конкретизм нередко смыкается с минимализмом, поскольку для обоих течений развернутое, логичное, «правильное» художественное высказывание оказывается изначально скомпрометированным. Крупнейшие русские конкретисты — Ян Сатуновский, Всеволод Некрасов, ранний Генрих Сапгир.
, Яна Сатуновского и Всеволода Некрасова, главные черты которой — пристальное внимание к естественной, разговорной речи, отказ от пафоса и риторики, внимание к повседневности и бытовой детали. В результате на стыке двух традиций возник сильный индивидуальный поэтический голос, совмещающий особенности обеих, на первый взгляд далеко отстоящих друг от друга традиций.
Интервал:
Закладка: