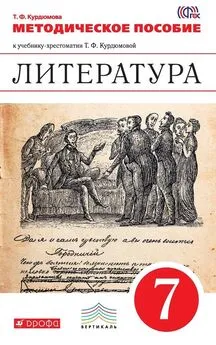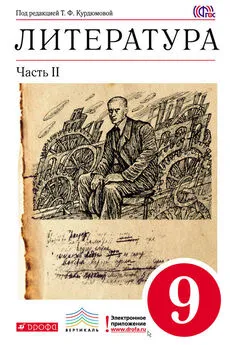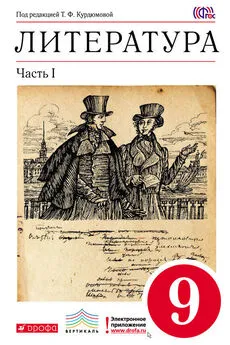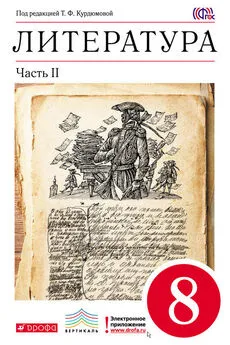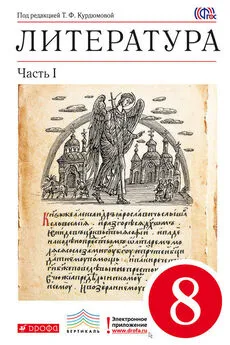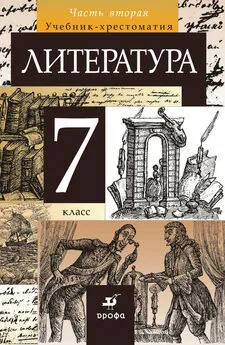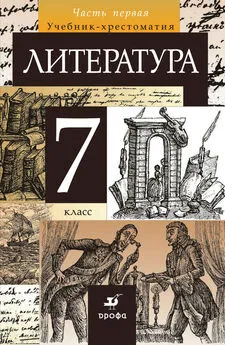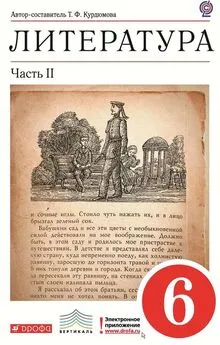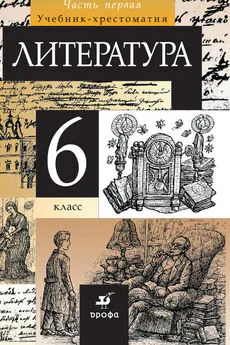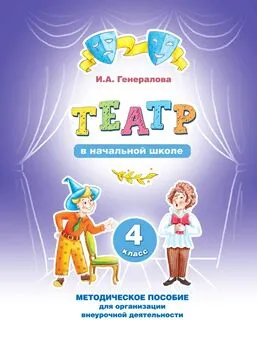Тамара Курдюмова - Литература. 7 класс. Методическое пособие
- Название:Литература. 7 класс. Методическое пособие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Дрофа»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-358-13077-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тамара Курдюмова - Литература. 7 класс. Методическое пособие краткое содержание
В книге даны новые подходы к изучению традиционных тем.
Литература. 7 класс. Методическое пособие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Толкований комедии существует множество, и лишь некоторые вы используете на уроках. Так, например, в 1960 году была опубликована статья С. Сергеева-Ценского о «Ревизоре», в которой автор стремился доказать гениальность Хлестакова не как художественного образа, а как человеческого характера, как «гения-плута», взявшего верх над «талантом-городничим». Едва ли с этим стоит соглашаться. Но подумать об этом и, может быть, поспорить можно.
Напомним учителю слова В. И. Немировича-Данченко, который в речи «Тайны сценического обаяния Гоголя» утверждал: «Самые замечательные мастера театра не могли завязать пьесу иначе, как в нескольких первых сценах. В «Ревизоре» же одна фраза, одна первая фраза: «Я пригласил вас, господа, для того, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор», – и пьеса уже начата. Дана фабула, и дан главнейший ее импульс – страх».
Таким же образом он оценивает и развязку: «Как одной фразой городничего он завязал пьесу, так одной фразой жандарма он ее развязывает, – фразой, производящей ошеломляющее впечатление опять-таки своей неожиданностью и в то же время совершенной необходимостью».
Как видим, работа по изучению текста строится с учетом особенностей жанра и все же практически даже не предполагает частого использования самого термина. Много дополнительного материала может дать обращение к истории театра и, поскольку пьеса экранизировалась, к истории кино.
Доклады, сообщения, стенды, выставки, фотомонтажи также не должны быть сброшены со счетов. Произведения Гоголя много иллюстрировали. Часть рисунков можно найти в книге «Н. В. Гоголь в портретах, иллюстрациях, документах». Интересно показать ребятам рисунок, подаренный Гоголю в 1835 году Пушкиным, с изображением городничего, и литографии первой половины XIX века, принадлежащие безымянным художникам, и иллюстрации П. Боклевского, С. Грибкова, Д. Кардовского, А. Константиновского. Внимательно рассмотрите офорт В. Даниловой и О. Дмитриева, созданный в 1951 году к столетию чтения комедии, «Гоголь читает «Ревизора» 5 ноября 1851 года в Москве». Среди присутствующих И. С. Тургенев, М. С. Щепкин, П. М. Садовский, С. Т. и И. С. Аксаковы.
И. С. Тургенев. «Стихотворения в прозе»
Большинство читателей, в том числе и учителей, воспринимают Тургенева как «романиста романистов». И ученики также знакомы только с его эпическими произведениями: рассказ (повесть) «Муму» и рассказ «Бежин луг».
В этом же классе мы знакомим учеников с Тургеневым как мастером малых форм. Новый для русской литературы жанр – стихотворение в прозе – родился в результате внимания друзей и знакомых к лаборатории писателя Тургенева. В учебнике описан один из эпизодов, демонстрирующих мастерство Тургенева, легкость его пера. Он же демонстрирует и то, как велик был интерес писателя к искусству.
Расскажем более подробно о том примере, который приведен в учебнике, – создании очерка о Пергамских раскопках. Раскопки алтаря Зевса производились в 1878–1879 годах на территории древнего города Пергама в Мизии. Найденные фрагменты были доставлены в Берлин и помещены сначала в Берлинском музее, а затем в специальном помещении.
В «Вестнике Европы» № 5 за 1884 год читаем: «Весною 1880 г., приехав в Пушкинский праздник прямо из Берлина, Тургенев за завтраком у редактора журнала заинтересовал всех своим рассказом о пергамских раскопках, которые в том году только что начали приводиться в порядок в берлинском музее. Кто-то из присутствующих заметил ему, что он непременно должен написать статью об этом; Тургенев тотчас же пообещал, но редактор выразил сомнение, чтобы это когда-нибудь было исполнено им, если его не запереть в комнату. Тургенев торжественно встал, напомнил, как в старину в Сенате снимали сапоги с неблагонадежных писарей, чтоб они не убежали со службы, извинился, что подагра не позволяет ему прибегнуть к такому способу удостоверения в его благонадежности, и тут же снял с себя галстук, в виде залога, заметив, что порядочному человеку без галстука нельзя уйти так же, как и без сапог, – и ушел в кабинет. Мы продолжали беседу, а через час времени он уже вынес написанный им этюд: «Пергамские раскопки» – один из прелестнейших его этюдов в области искусства».
Предложим учителю фрагменты этого небольшого очерка.
…Эти горельефы составляли собственно фронтон или фриз громадного алтаря, посвященного Зевесу и Палладе (фигуры в полтора раза превосходят человеческий рост) – стоявшего перед дворцом или храмом Аттала. Они найдены на довольно незначительной глубине и хотя разбиты на части (всех отдельных кусков собрано более 9000 – правда, иные куски аршина полтора в квадрате и более), но главные фигуры и даже группы сохранены, и мрамор не подвергся тем разрушительным влияниям открытого воздуха и прочим насилиям, от которого так пострадали останки Парфенона. Все эти обломки были тщательно перенумерованы, уложены на двух кораблях и привезены из Малой Азии в Триест… потом отправлены по железной дороге в Берлин. Теперь они занимают несколько зал в Музеуме, на полу которых они разложены, и понемногу складываются в прежнем своем порядке, под наблюдением комиссии профессоров и с помощью целой артели искусных итальянских формовщиков. К счастью, главные группы сравнительно меньше пострадали – и публика, которой позволяется раз в неделю осматривать их с высоты небольших подмостков, окружающих лежащие мраморы, может уже теперь составить себе понятие о том, какое поразительное зрелище представят эти горельефы, когда, сплоченные и воздвигнутые вертикально в особенно для них устроенном здании, они предстанут перед удивленными взорами нынешних поколений во всей своей двухтысячелетней, скажем более – в своей бессмертной красоте.
Эти горельефы (многие из тел так выпуклы, что совсем выделяются из задней стены, которая едва с одной стороны прикасается их членов) – эти горельефы изображают битву богов с титанами или гигантами, сыновьями Гэи (Земли). Не можем здесь же, кстати, не заметить, что какое счастье для народа обладать такими поэтическими, исполненными глубокого смысла религиозными легендами, какими обладали греки, эти аристократы человеческой породы. Победа несомненная, окончательная – на стороне богов, на стороне света, красоты и разума; но темные, дикие земные силы еще сопротивляются – и бой не кончен.
Посередине всего фронтона Зевс (Юпитер) поражает громоносным оружием, в виде опрокинутого скиптра, гиганта, который падает стремглав, спиною к зрителю, в бездну; с другой стороны – вздымается еще гигант, с яростью на лице – очевидно, главный борец, – и, напрягая свои последние силы, являет такие контуры мускулов и торса, от которых Микель-Анджело пришел бы в восторг. Над Зевсом богиня Победы парит, расширяя свои орлиные крылья, и высоко вздымает пальму триумфа; бог солнца, Аполлон, в длинном легком хитоне, сквозь который ясно выступают его божественные юношеские члены, мчится на своей колеснице, везомый двумя конями, такими же бессмертными, как он сам; Эос (Аврора) предшествует ему, сидя боком на другом коне, в перехваченной на груди струистой одежде, и, обернувшись к своему богу, зовет его вперед взмахом обнаженной руки; конь под ней так же – и как бы сознательно – оборачивает назад голову; под колесами Аполлона умирает раздавленный гигант – и словами нельзя передать того трогательного и умиленного выражения, которым набегающая смерть просветляет его тяжелые черты; уже одна его свешенная, ослабевшая, тоже умирающая рука есть чудо искусства, любоваться которым стоило бы того, чтобы нарочно съездить в Берлин. Далее, Паллада (Минерва), одной рукой схватив крылатого гиганта за волосы и волоча его по земле, бросает длинное копье другою, круто поднятой и запрокинутой назад рукою, между тем как ее змея, змея Паллады, обвившись вокруг побежденного гиганта, впивается в него зубами. Кстати заметить, что почти у всех гигантов ноги заканчиваются змеиными телами, – не хвостами, а телами, головы которых также принимают участие в битве; Зевсовы орлы их терзают – уцелела одна змеиная широкая, раскрытая пасть, захваченная орлиной лапой…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: