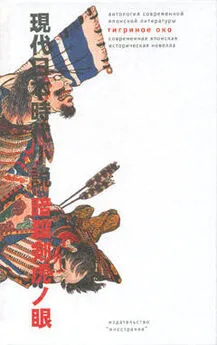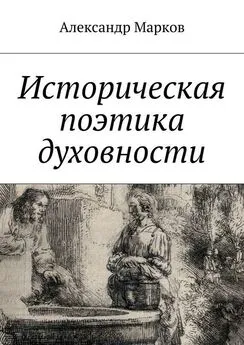Елеазар Мелетинский - Историческая поэтика новеллы
- Название:Историческая поэтика новеллы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елеазар Мелетинский - Историческая поэтика новеллы краткое содержание
Историческая поэтика новеллы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сделаем несколько теоретических умозаключений.
Мы могли убедиться, что в анекдотической сказке на авансцене находятся фигуры глупца и хитреца и что эти фигуры, равно как и соответствующие «стихии», составляют основные полюса анекдота, между которыми возникают «напряжение» и действие. Фигуры глупца и хитреца изредка отождествляются или смешиваются в промежуточном образе шута. В многочисленных обзорах фольклористов, как правило, упоминается существование групп сказок о хитрецах и глупцах в ряду других тематических групп, но эти фигуры, к сожалению, не рассматриваются как конститутивные начала самой жанровой структуры основного корпуса фольклорных анекдотов. Ведь в любом анекдоте о хитреце рядом с ним изображен простак или глупец, которого он одурачивает. Эти фигуры почти всегда взаимодействуют друг с другом. Анекдоты как бы создаются вокруг оси глупость/ум, причем ум предстает исключительно в виде хитрости, и эта хитрость реализуется в действии как плутовство или шутовство. Плутовской оттенок отличает «ум» в анекдоте от «ума» в собственно новеллистической сказке, где хитрость переплетена с «мудростью».
Выше, при рассмотрении новеллистической сказки я указывал, что ум, мудрость в сказке большей частью имеет провербиальный -характер, а сами пословицы, как известно, представляют собой набор основных трафаретных суждений здравого смысла.
Глупость (в анекдотах), наоборот, представляет собой набор нарушений элементарных логических правил, парадоксальный разрыв естественного соответствия субъекта, объекта и предиката и выпячивание противоречий между ними, одновременно — отождествление между собой по второстепенным или мнимым признакам разнородных предметов, существ и действий. Выходя за пределы сказок о глупцах в узком смысле слова (одурачивание или самоодурачивание простаков, логический абсурд, как мы видели, широко представлен в самых различных анекдотах), можно сказать, что именно абсурдные парадоксы являются специфической чертой анекдотического жанра. Именно они, а не просто шутливость или остроумный финал определяют его форму.
Абсурдные анекдотические парадоксы можно было бы трактовать как вид паремий, подобных пословицам и поговоркам, а абсурдные казусы, разворачивающиеся в повествование с парадоксом-«изюминкой» и композиционной кульминацией, можно рассматривать как выворачивание наизнанку явлений реальной жизни. Я хочу обратить внимание на то, что и внешняя форма пословиц, не говоря уже о загадках, имеет причудливый, парадоксальный оттенок, содержит известные контрасты. Например, в простейшей пословице «мал золотник, да дорог» весьма банальные и рациональные суждения о независимости ценности от величины облечены в контрастный образ, в котором малая величина как бы противопоставляется большой ценности, с тем чтоб эту противоположность тут же снять, преодолеть. В анекдотах эта парадоксальность более острая и более глубокая. Кроме того, в отличие от пословиц или близких им нравоучительных побасенок, анекдот нельзя свести к морализующей сентенции, а если даже и можно сделать нравоучительный вывод «от противного», то все равно акцент будет не на этом выводе, а на самом парадоксе, на выворачивании наизнанку логики и обыденной реальности. В некоторых случаях обнажение парадокса служит целям сатиры, но число подобных случаев и степень сатиричности в традиционной фольклорной анекдотической сказке не следует преувеличивать. Тут надо учитывать и феномен «карнавальности», т. е. освященного традицией переворачивания порядка, и, наоборот, извлечение комического эффекта из парадоксального несоответствия между нормой и изображаемым.
В принципе к большинству анекдотов можно найти их антиподы, с противоположным смыслом (так же как в пословицах). Это относится и к освещению плутовства/глупости.
Мы видели, что во многих анекдотах плуты прославляются, а простаки подвергаются осмеянию, но имеются и такие, где плуты наказываются за свое коварство или самонадеянность. Все же нетрудно обнаружить и известную асимметрию, связанную с определенными социальными коннотациями, — чаще положительную оценку получают ловкие воры и веселые озорники, особенно когда их жертвами оказываются помещики, хозяева, священники. Основным здесь является восхищение умом, ловкостью и изобретательностью хитреца и комический эффект нелепых ситуаций, в которые попадают их жертвы, но и социальный адрес жертвы имеет значение. Глупцы и одураченные простаки большей частью изображаются с добродушным юмором, но возможно появление и сатирических ноток, как раз часто в связи с социальными коннотациями.
Как правило, в отрицательном ключе изображаются злые жены (неверные, ленивые, упрямые и т. д.) и служители церкви, которые часто выступают в роли неудачливых любовников. Священник получает комическую характеристику жадного и завистливого человека, нарушающего те самые заповеди, которые он проповедует и в качестве хозяина батрака, и в роли неумного проповедника. Здесь нарушение нормы как источник комического парадокса кажется особенно эффектным. Нарушение патриархальной нормы жизни достаточно остро и в анекдотах о злых женах, оно воспринимается как извращение нормального порядка (в отличие от трактовки классической новеллы Возрождения), как комическое проявление природы женщины в качестве «сосуда дьявола». Как бы далеко ни заходили сатирические тенденции в более поздних образцах анекдотического фольклора, для средневекового этапа несомненно доминирование парадоксального комизма над собственно сатирическими элементами.
Анекдотическую и собственно новеллистическую сказку можно рассматривать как две «подсистемы» некоей более общей жанровой системы, как две группы, соотнесенные между собой по принципу дополнительности. Действительно, таково соотношение хитрости — мудрости в новеллистической и хитрости — плутовства в анекдотической сказке, новеллистических сказок о мудрецах и анекдотов о глупцах. Анекдоты о неверных и ленивых женах дополнительны (т. е. антиномичны и симметричны) новеллистическим сказкам о верных и добродетельных женах, с достоинством выходящих из тяжких испытаний. Так же анекдоты о случайной удаче дурачка находятся в отношениях дополнительной дистрибуции со сказками о судьбе, анекдоты о ловких ворах — со сказками о разбойниках. Классическая новелла унаследовала традиции фольклорной предновеллы и анекдота как единого целого.
2. ВОСТОЧНАЯ НОВЕЛЛА
Наш краткий обзор «новеллообразных» жанров в фольклоре должен быть сопровожден некоторыми оговорками. Прежде всего надо подчеркнуть, что обзор этот сугубо синхроничен, отчасти в силу специфики фольклора, стихийно «синхронизирующего» свой материал, но не только; я последовательно отвлекался от выяснения истории отдельных сюжетов, которые могли быть и книжного происхождения. Как уже отмечалось, взаимодействие фольклора и литературы, особенно в области малых повествовательных форм, происходило непрерывно, и первоначальный генезис сюжета часто неясен. С точки зрения жанрового своеобразия важны не столько отдельные сюжеты (большей частью входящие и в фольклорный репертуар, и в проповеднические exempla, и в фаблио, шванки, ранние новеллы и т. п.), а преобладание тех или иных сюжетных групп и особенности интерпретации сюжетов. С другой стороны, наш обзор не лишен некоторой доли европоцентризма, поскольку такой европоцентризм присущ в той или иной мере и общепринятым фольклорным указателям (кроме специального указателя Эберхарда по китайской сказке), и большинству обобщающих монографий и публикаций. Поэтому наш экскурс в область восточной сказки может создать отчасти ложное ощущение диссонанса с фольклорной предновеллой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: