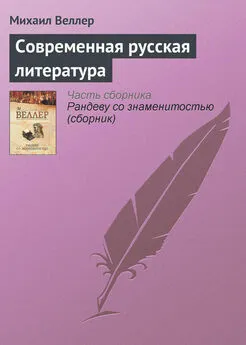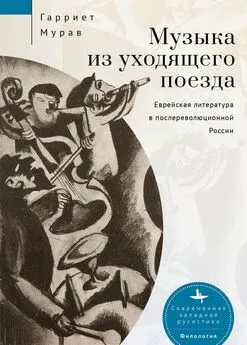Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Название:Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816035
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература краткое содержание
Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мысль о русификации еврейской литературы, начиная с поколения Василия Гроссмана, доминирует в книге Нахимовски. «…Гроссман так и не стал еврейским писателем ни в этнографическом, ни в духовном смысле. […] [Он] не знал еврейских традиций и никогда ими, кажется, не интересовался» [Ibid: 108]. Воспитанный в духе марксистского интернационализма, Гроссман, подобно многим своим ровесникам, воспринимает собственную еврейскую идентичность как нечто внешнее, обусловленное прежде всего холокостом и государственным антисемитизмом. В глазах Гроссмана судьба еврейства, наряду с коллективизацией и сталинскими чистками, представляет собой одну из трагических страниц русской истории.
Главный герой романа Феликса Розинера «Некто Финкельмайер» (1975), который разбирает Нахимовски, тоже истинный русский интеллигент, притесняемый властями, преследуемый поэт с типичной судьбой советского диссидента, во многом напоминающий Иосифа Бродского. Его еврейство ограничивается нерусским, стигматизирующим именем «Аарон-Хаим Менделевич Финкельмайер», парой идишских слов, которые он, иронизируя над собой, изредка вставляет в разговор, причудливой, нескладной фигурой и особой ранимостью. Независимо от того, что его духовная связь с русскими друзьями-нонконформистами намного прочнее, чем с еврейской семьей, как еврей он оказывается вдвойне уязвим, поскольку беззащитен перед государственным антисемитизмом. Он не может поступить в университет или публиковать стихи под собственным именем. Характерно, что Финкельмайер, превосходно знающий русский язык и русскую литературу, резко противопоставлен в этом гордящемуся собственной народностью русскому поэту-патриоту Пребылову. Все это делает Финкельмайера рафинированным русским интеллектуалом, жертвой советского шовинизма и фигурой трагической: «Подводя итог, можно сказать, что Финкельмайер – русский поэт с еврейским именем и еврейской судьбой. Быть может, еврейская судьба – общая участь русской литературно-художественной интеллигенции, обреченной на изоляцию и преследования» [Ibid: 190].
Размышления Нахимовски о еврейских авторах и героях позднесоветского времени создают важный фон для моего анализа еврейской «второй культуры». Парадоксальную, протестно окрашенную (само)иудаизацию ассимилированной еврейской интеллигенции я рассматриваю как характерную составляющую общего культурного и духовного переизобретения традиции в эпоху диктатуры.
В своей книге о «путях еврейского самосознания» с 1930‐х по 1990‐е годы Рита Гензелева прослеживает похожие процессы на примере произведений Василия Гроссмана, Израиля Меттера, Бориса Ямпольского и Руфи Зерновой. Период еврейского культурного «возрождения», последовавший за арабо-израильской Шестидневной войной 1967 года, был результатом еврейской ассимиляции, когда традиционные этнические признаки еврейства («primordial ethnicity») сменились нетрадиционными, такими как антисемитизм, графа в паспорте и общая историческая судьба («instrumental ethnicity»). Так как русско-советские евреи в большой степени определялись социальными, психологическими и профессиональными, нежели этническими, атрибутами [Гензелева 1999: 7–15], их самоощущение отличалось болезненной раздвоенностью: ориентация на русскую культуру приходила в противоречие с еврейским историческим опытом (в качестве примера Гензелева приводит неприязненное отношение Бориса Пастернака к своему еврейству) 68 68 У Гроссмана и Гензелева, и Нахимовски усматривают (прежде всего, в ключевом тексте «Жизнь и судьба») солидарность с русским великодержавным сознанием при условии, что оно не вырождается в шовинизм. Имплицитному гроссмановскому автору евреи оказываются так же близки, как татары, калмыки или немцы. Уродующее влияние советского антисемитизма сводит личность выдающегося ученого Виктора Штрума к его внешности, унижая тем самым его человеческое достоинство, и это трагедия холокоста заставляет Софью Левинтон вдруг ощутить себя единым целым с другими евреями в поезде, везущем их на смерть. Гроссмановский еврейский протагонист ощущает свою национальность лишь под воздействием аномальных, мучительных обстоятельств.
.
В диахронном подходе Гензелевой, которая, как и Нахимовски, соединяет литературную социологию с анализом текста («близким чтением»), важны два момента. «Национальное самосознание» писателей выявляется на разных уровнях текста, таких как выбор материала, структура персонажей, лейтмотивы, лексика и подтекст. С историко-культурной точки зрения поэтика изображения еврейства одновременно свидетельствует о важных изменениях внелитературного контекста: социального, политического и географического. Данный подход оказывается особенно продуктивным при анализе эволюции характера «еврейскости» применительно к творчеству того или иного писателя. Так, в повести 1930‐х годов «Конец детства» Израиль Меттер еще вполне мог вывести отрицательных еврейских персонажей, поскольку не ждал от читателей антисемитской реакции. Однако ситуация изменилась к 1960‐м годам, времени создания повести «Пятый угол», когда открыто говорить об антисемитизме стало невозможно, а отрицательные еврейские персонажи лишь подтвердили бы общественный стереотип о евреях как трусах и тунеядцах. Этот текст говорит и о другом: эксплицитная связь еврейской темы с осуждением тоталитаризма сигнализирует о начальной фазе национального движения советских евреев, периоде частичной детабуизации, новых требований и политического протеста [Там же: 125] 69 69 Об аналогичных тенденциях в творчестве Бориса Ямпольского см.: [Гензелева 1999: 157–207].
.
Повествовательная тональность, характер референциальности и структуры произведений позволяют сопоставить текст и контекст этнического письма , а поэтика оказывается неразрывно связана с исторически заряженной идентичностью. Плодотворным для моего исследования будет метод выявления еврейской поэтики текста путем анализа его культурно-исторических и политических импликаций и наоборот.
В отличие от Нахимовски и Гензелевой, Олаф Терпиц обращается уже исключительно к русско-еврейской прозе позднесоветского периода. На примере еврейской составляющей творчества Анатолия Рыбакова, Бориса Ямпольского, Григория Кановича и Олега Юрьева он показывает, как литература становится эпистемой исторического знания: она может «прямо или косвенно прояснять „место“ евреев в позднесоветском обществе, говорить об их взаимодействии с другими культурами […]. Поэтому литературные тексты и их рецепция обладают, среди прочего, эпистемологическим потенциалом для историографии» [Terpitz 2008: 9]. Действительно, топос штетла как никакой другой для евреев несет в себе «исторические потрясения XX столетия» [Ibid: 15]. Штетл как бы методически притягивает к себе разные теории и модели постижения: «исторические, этнографические и литературоведческие работы», постколониальные исследования с их концепцией гибридной субъективности, интеркультурный подход к литературам диаспор и др. [Ibid: 22–25].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
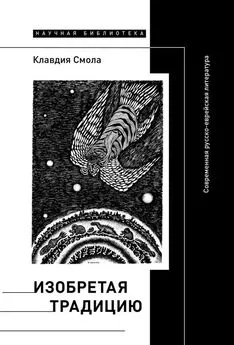




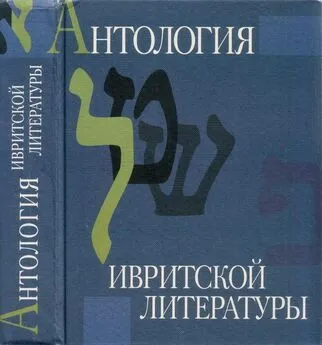
![Кирилл Королев - «Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья]](/books/1068720/kirill-korolev-izobretaya-tradicii-metamorfozy-f.webp)
![Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]](/books/1085421/alek-epshtejn-zabytye-geroi-monparnasa-hudozhestven.webp)