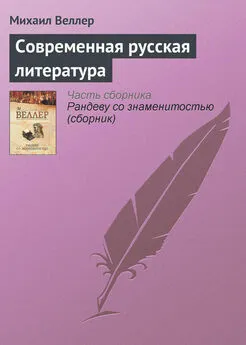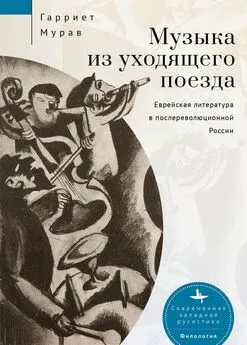Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Название:Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816035
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература краткое содержание
Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Неортодоксальная преемственность в еврействе стала предметом важных литературоведческих работ последних десятилетий. В процитированной монографии Гельхард непроизносимость и завуалированность (телесная неявленность) бога и проистекающая из этого невозможность прикоснуться к истине, к последнему смыслу Торы, становятся основой свободы толкования и в то же время причиной символического наполнения языка «как связующего звена между богом и человеком». «Письменная Тора [подразумевает] лишь вероятность, возможность прочтения и понимания» [Ibid: 5]. Из этого вытекает принцип символического прочтения, для которого характерно толкование не буквального смысла Библии ( пешат ), а ее семантического подтекста, многозначности, ассоциаций и отдаленных связей ( дераш ) 3 3 Ср. использование у Гельхард работ Гудман-Тау [Goodman-Thau 2002] и Кильхера [Kilcher 1998] в: [Gelhard 2008: 4–9].
. Такое различение типов экзегезы Гельхард переносит не только на теорию литературы, например, интертекстуальности, но и на сами литературные тексты и их взаимодействие с традицией. Так развитие еврейских литератур – как и их отдельные произведения – наследует истории еврейского комментария Книги.
В своем исследовании «переплетений» в еврейских литературах Дан Мирон прослеживает, как знаменитый ивритский писатель Ахад ха-Ам в свое время еретически психологизировал божественное начало в духе сионизма: в эссе «Моисей» он сравнивает пламя горящего тернового куста, символ откровения, с моральным пылом Моисея как национального лидера. Ахад ха-Ам доводит реинтерпретацию священного до крайнего предела, никак не приемлемого с точки зрения тогдашних критиков. «Между тем эта типичная для философии Ахада ха-Ама двойственность секуляризации сакрального и сакрализации секулярного (курсив мой. – К. С. ) определила ход развития всей современной ивритской литературы» [Miron 2007: 94]. Основу вымысла в еврейских литературах и сегодня часто составляет символический акт снижения и переноса сакрального в реальный мир – его гуманизация, принесение учения «в жертву» отверженности и разъятости мирского и исторического. Зачастую именно поэтика, прием, форма становятся собственным комментарием к «исходному тексту» традиции. Так же, как современные ивритские поэты уверенно используют библейские и постбиблейские традиции в качестве основного источника для развития своих национальных литератур, – Мирон называет подражания псалмам, квазибиблейские сказания, олитературивание талмудического арамейского языка, лирические «пророчества», обработку и перевод Талмуда и мидрашей, а также переизобретение хасидского рассказа [Ibid: 96–101] – так и русско-еврейские авторы обращались и обращаются к определенным жанрам, героям, сюжетам и элементам языка ради продолжения художественной «генеалогии» еврейства или, напротив, в подтверждение ее утраты. Литературная символика становится «посредническим, переводческим, переговорным» актом [Слезкин 2005: 34] 4 4 «…all acts of mediation, negotiation, and translating» [Slezkine 2004: 20].
, который соединяет не только культуры, но и эпохи и исследует настоящее с помощью прошлого. В этом смысле культурный перевод означает творческое, рефлектирующее и в высшей степени семантическое (пере)прочтение и реактуализацию Книги – жест, восходящий среди прочего к традиции мидрашей, разве что вместо еврейской Библии в качестве исходного пункта мы имеем дело с ушедшей еврейской культурой во всем ее разнообразии.
В центре (пост)структуралистского изучения метода комментариев мидрашей, расцветшего в США в 1980–1990‐х годах, стоял вопрос: «Как сделать прошлое понятным для настоящего?» 5 5 «How does one mediate the past for the world of the present?» [Holtz 1992: 377].
Вывод оказался столь же симптоматичным, сколь и значительным: работа сочинителей мидрашей шла гораздо дальше толкования фрагментов Библии, она сама становилась литературой, первичным текстом 6 6 «…мидраши и сами становятся текстовым корпусом первого порядка, отдельной полноправной ЛИТЕРАТУРОЙ – поистине священным текстом» [Ibid]. Даниэль Боярин прослеживает такое понимание мидраша на материале от Маймонида до Исаака Хайнемана [Boyarin 1990: 1–11].
. Этот вывод открывает широкий простор для размышлений как о важных для еврейских исследований литературоведческих методах анализа текста в эпоху академического постмодерна, так и об использовании еврейской традиции в самих литературных текстах. Свойственная мидрашу безграничная семантизация текста, скрупулезная интерпретация слова и буквы – «гипер-интенсивное чтение» («hyper-intensive reading») и «раввинистический микроскоп» («rabbinic microscope»), по выражению Хольтца [Holtz 1992: 384], – но, прежде всего, принцип внеконтекстуального, ассоциативного, сверхчувствительного к интертексту обращения с Торой, – все это порождает новые и новейшие литературные практики переосмысления прошлого и запускает механизм культурного обновления.
Производя потенциально бесконечную интертекстуальную работу 7 7 О возникновении, течениях и различных концепциях интертекстуальности см.: [Smola 2004: 13–42].
интерпретации и дописывания – эти две стратегии образуют, по Джеффри Х. Хартману, симбиоз, – мидраши проблематизируют понятия оригинала и источника: «Оригинальность изменяет свое значение или удваивает свое местонахождение. Канон […] расширяется посредством интертекстуальной рефлексии, вобравшей в себя функцию памяти и сохранения» [Hartman/Budick 1986: xii] 8 8 Как уже упоминалось, Гельхард тоже отмечает связь между еврейской герменевтикой и принципами теории интертекста, не упоминая, однако, работу Боярина [Gelhard 2008: 7–8].
.
Таким образом, мидраш, толкуя прошлое, использует культурные коды своего времени и отсылает посредством цитат из Торы в первую очередь к себе самому и своей эпохе. Боярин переносит постструктуралистское отрицание жесткой связи между сигнификатом и сигнификантом на историю еврейского библейского экзегезиса, (заново) лишая раввинское прочтение его исключительного, неподвластного времени авторитета и делая предание доступным для «сильного читателя». Раввины же выступают как ранние представители компетентной, но ограниченной своей эпохой аудитории, пытающейся закрыть смысловые лакуны Торы, – текста, который сам построен на бесконечных перекличках и диалоге:
Вследствие своей интертекстуальности Тора обнаруживает множество лакун, которые должен заполнить сильный читатель. Имеется в виду не тот читатель, который борется за оригинальность, а тот, который стремится найти искомое в священном тексте. Его собственный интертекст – это культурный код, позволяющий как создавать, так и находить смыслы [Boyarin 1990: 16].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
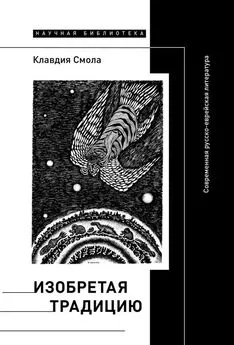




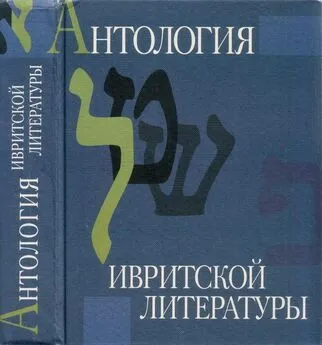
![Кирилл Королев - «Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья]](/books/1068720/kirill-korolev-izobretaya-tradicii-metamorfozy-f.webp)
![Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]](/books/1085421/alek-epshtejn-zabytye-geroi-monparnasa-hudozhestven.webp)