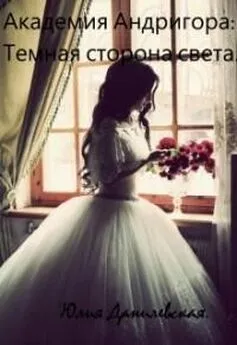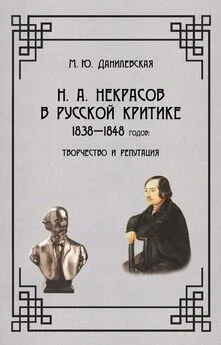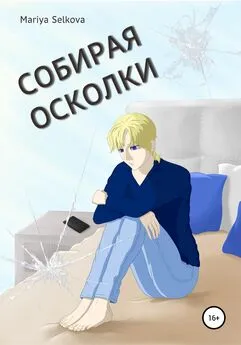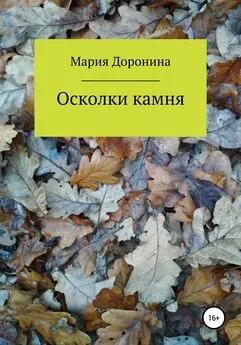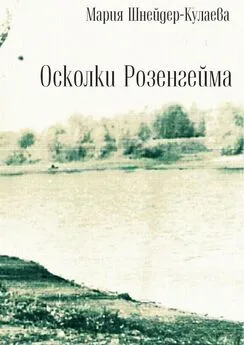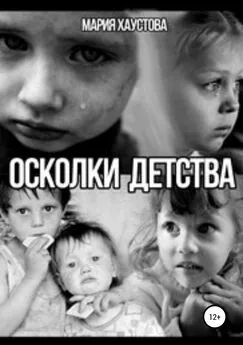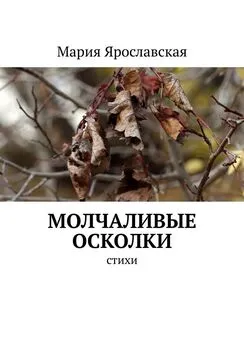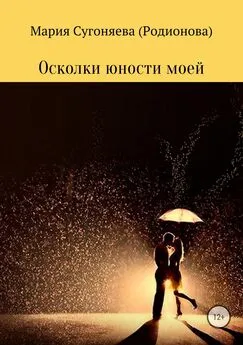Мария Данилевская - Осколки голограммы
- Название:Осколки голограммы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00025-291-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Данилевская - Осколки голограммы краткое содержание
Предметом нескольких статей стал «панаевский» сюжет. В них представлен анализ поэтики любовной лирики Некрасова, адресованной А. Я. Панаевой, и «Воспоминаний» А. Я. Панаевой (Головачевой) в контексте мемуаров эпохи.
Пристальное внимание уделяется специфике мемуарного повествования. Анализируются намерения автора в подаче фактического материала, система умолчаний, смещение смысловых акцентов при записи устных рассказов, полемичность мемуарных текстов. В освещении биографического контекста уделяется внимание такому фактору, как эфемерная, но неизымаемая из истории эпохи сила личного обаяния человеческой личности: Н. В. Станкевича, Т. Н. Грановского, В. Г. Белинского, артистки В. Н. Асенковой и др. Власть личного обаяния подчас оказывается ключом к тому, как формировались убеждения и художественные образы у людей, побывавших «в ее орбите».
Книга предлагается исследователям русской литературы XIX века, преподавателям, студентам, любому заинтересованному читателю.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Осколки голограммы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во второй половине июня Некрасов приехал из-за границы в Карабиху (XV-2: 348). В июле он пишет сестре: «Пожалуйста, напиши Селине, что я ее помню и очень буду рад, когда она воротится» (XV-1: 58). Год письма датирован в ПСС предположительно: «Июль 1867(?)» (XV-1: 235). Одно из четырех писем Лефрен к Некрасову, датированное в «Литературном наследстве» 1869 г., скорее всего, написано в 1867 г. (Письма СЛ: 193–194). В нем она, в частности, пишет: «Я с удовольствием поеду в Петербург _ что будет дальше, не знаю _» [37] (Письма СЛ: 192).
29 ноября 1867 г. в письме к В. П. Гаевскому Некрасов сообщает: «Селина Алекс(андровна) по доброте сердечной писала Вам записку, чтоб отсрочить Тетенбе (?) до января. Я ей доказал, что он может в это время сбежать, – и она, раскаявшись в своем мягкосердечии, просит Вас на записку ее не обращать внимания» (XV-1: 64). Датировка этого письма основывается на упоминании договора с А. А. Краевским (XV-1: 240), поэтому присутствие Лефрен в Петербурге осенью 1867 г. можно считать документально подтвержденным.
Б. В. Мельгунов в статье «Был ли Некрасов в Карабихе летом 1868 года» [38]касается, в частности, истории знакомства Некрасова с П. Н. Мейшен. Оно началось летом 1867 г. в Ярославле [39].
Просьба к сестре написать Селине относится, по-видимому, именно к этому времени. В письме из Карабихи Некрасов просит: «Напиши ей побольше», делает приписку: «Лисененок растет и все больше становится похож на Селину: так же долговяз, мил, ласков и не без хитрости» (XV-1: 58). Селина в процитированном выше письме с пометой «в 13 septembre» ссылается на их с Некрасовым переписку: «Мой друг. ⁄ Меня удивляет, что ты пишешь, что давно нет писем от меня_ _/Я очень часто пишу тебе…» (Письма СЛ: 192).
Не оспаривая никаких утверждений и предположений, связанных с П. Н. Мейшен, коснусь лишь фактов, имеющих отношение к Лефрен. Сведений о ее отъезде в 1868 г. нет. С декабря 1868 г. П. Н. Мейшен живет у Некрасова в Петербурге [40]. В 20-х числах марта 1869 г. Некрасов отправляется за границу. В письме к Н. В. Холшевникову (2/14 апреля) из Берлина он сообщает адрес: «Думаю из Парижа пробраться в Лондон, поэтому прошу Вас написать мне <���…> адресуя: a Paris ⁄ 20 Rue de Bruxelle ⁄ M-me Lefresne, pour M-r Nekrasoff». Некрасов и Лефрен провели время вместе приблизительно с середины апреля и до 17 мая, а может быть, и до 21 июня (Письма СЛ: 195), и затем с 17 июля по 21 августа (XV-1: 107, 112). В письме к А. А. Буткевич от 13 августа поэт сообщает о своих колебаниях, не остаться ли ему на зиму в Европе: «…Есть очень хорошая сторона тут, но есть и дурная: ненавижу кабальное состояние, как бы оно приятно ни было» (XV-1: 111). «Я привык заставлять себя поступать по разуму, очень люблю свободу – всякую и в том числе сердечную, да горе в том, что по натуре я злосчастный Сердечкин. Прежде все сходило с рук (и с сердца) как-то легче, а теперь трудновато приходится иной раз. Пора иная, старость подходит, надо брать предосторожности даже против самого себя, а то, пожалуй, так завязнешь, что не выскочишь» (XV-1: 110).
Как известно, зиму 1869/70 г. поэт провел с П. Н. Мейшен. Принято считать лето 1869 г. временем окончательного разрыва отношений между Некрасовым и Лефрен, хотя он указал ее в своем завещании и напоминал о ней сестре Анне. Это упоминание наводит на мысль, что, возможно, в форме писем отношения продолжали существовать. Некрасов пишет 21 сентября 1876 г.:
«Пошли же Селине деньги. Прилагаю адрес, да успокой ее, а то, верно, уж узнала, что мне плохо, и боится за свой капитал» (XV-2: 144). Адрес: «М. Lefresne, par Paris ⁄ Maison Lafitte / Seine-et-Oise (?)» – записан на полях рукописи главы «Пир на весь мир» («Кому на Руси жить хорошо»; V: 668; XIII-2: 339). Фраза Некрасова звучит как повторное напоминание сестре. Обращает на себя внимание и предположение, что Селина «уж узнала» о его тяжелом состоянии. Узнать, будучи в Париже, Селина могла, если она поддерживала связь с Некрасовым, хотя бы письменную, и/или с их общими знакомыми. Впоследствии Селина получила наследство [41]. Некрасов знал, что ее адрес не менялся (этот адрес указан в ее первом письме). Судя по тому, что адрес Некрасов дал сестре, связь между сестрой и Селиной к тому времени прервалась. Примечательно, что в наследство Селина получила векселя [42], а Некрасов просит сестру послать ей деньги. Можно предполагать, что Некрасов продолжал оказывать материальную поддержку этой женщине.
Приведенные цитаты и соображения делают спорным закрепившееся в некрасововедении суждение: хотя окончательный разрыв с Лефрен в 1869 г. был для Некрасова тяжел, сами отношения были легкими и комфортными и не слишком много для него значили, судя по тому что не нашли отражения в его творчестве.
В 1864 г., по возвращении из заграничного путешествия вместе с сестрой Анной и Селиной Лефрен, между 21 и 24 августа Некрасов посылает В. А. Панаеву через С. В. Звонарева стихотворение «Возвращение» («И здесь душа унынием объята…» – II: 167) с припиской: «Здоров ли ты? Тебе стихи, из них увидишь, что я не очень весел. Н. Некрасов» (XV-1: 18,211). Стихотворение опубликовано в № 9 «Современника» за 1865 г. с датой «1864». В комментарии ПСС говорится, что «Возвращение» «навеяно впечатлениями от приезда в Карабиху осенью» «после пребывания» за границей. «Современники воспринимали заключительное двустишие как выражение тоски по революционному подвигу» (II: 398). Несмотря на ее поверхностность, эта интерпретация в общем понятна. «Лобовое» прочтение послужило поводом отнести произведение к «гражданской поэзии». Однако «Возвращение» – образец медитативной лирики. Оно содержит и описание восприятия действительности, и динамику душевного состояния, и размышление.
Начало стихотворения – «И здесь душа унынием объята» (курсив мой. – М.Д.) – сразу заявляет о некоем «там», где, как и «здесь», поэт пребывал во власти уныния. Переживание уныния развертывается в картину субъектно-объектных отношений: окружающий мир «не ласков» с поэтом; смотрит на него, как разлюбивший и разуверившийся друг; оплакивает и «как будто бы» принимает его за мертвеца; «бросает» в него «холодные листы» (жест одновременно уничижения и погребения); отчуждает и гонит «мимо! мимо!»
Вместе с тем поэт и окружающий мир пребывают в отношениях семантического параллелизма: чувства поэта – «уныние», «тоска», «боязнь», утрата мечтаний – находят отражение в жестах внешнего мира: «рыдании» («…Земля моя родная ⁄ Вся под дождем рыдала без конца» – картина изобильных, неутешных слез), разуверившемся взгляде, пожелании «мимо! мимо!», «горькой» песне. Поэт и мир отражаются друг в друге, как в зеркале, причем «зеркало» усугубляет жест противоположной стороны: уныние – взгляд без веры и любви, уныние – рыдание (оплакивание «мертвеца»), уныние – отчуждающие жесты и слова – душевное движение («С той песней вновь в душе зашевелилось, ⁄ О чем давно я позабыл мечтать») – проклятие («И проклял я то сердце, что смутилось ⁄ Перед борьбой – и отступило вспять!»). В последнем катрене жест поэта – двойной: он ощущает душевное движение, и он же проклинает собственное сердце по сути за «уныние» (смущение перед борьбой). Семантически стихотворение замыкает кольцо, уныние выступает и как причина, и как следствие, оно и начало, и конец.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
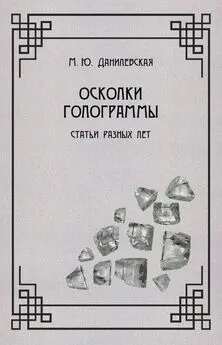

![Мария Акулова - Душа на осколки [СИ]](/books/1072574/mariya-akulova-dusha-na-oskolki-si.webp)