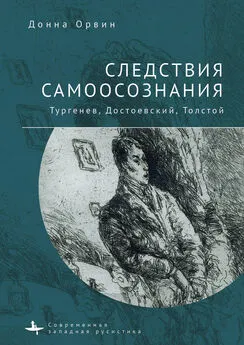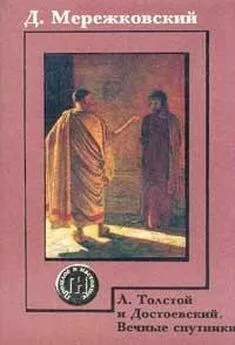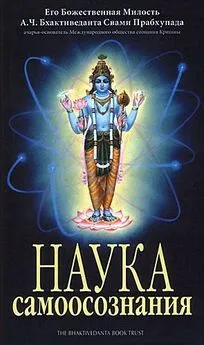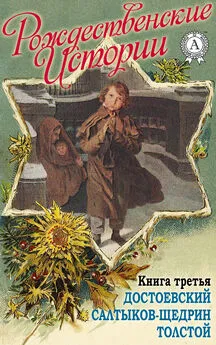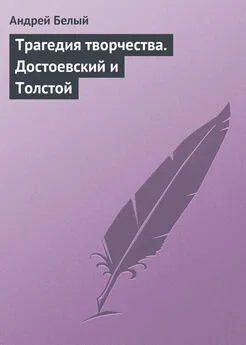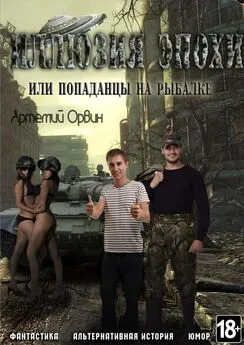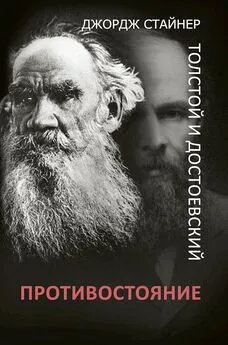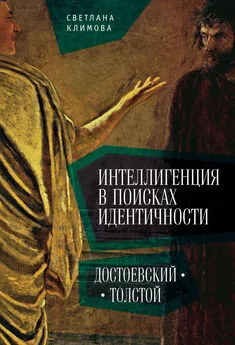Донна Орвин - Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой
- Название:Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Бостон / Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-907532-07-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Донна Орвин - Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой краткое содержание
Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Достаточно сравнить атмосферу в «Анне Карениной» (1875–1877) Толстого с атмосферой во вполне с ней сопоставимом шедевре европейского реализма «Госпоже Бовари» (1857) Гюстава Флобера, чтобы составить представление о значении субъективности в русском романе и о его следствиях. В обоих романах героиня с именем-эпонимом подчиняется личному демону, следует за ним, куда бы он ее ни вел, и в результате погибает. Обе героини любимы их создателями и, следовательно, читателями, и все же только Анна возвышается до уровня трагической героини, тогда как Эмма остается жертвой среды и собственных заблуждений. Для Флобера имеет цену подлинная наука, представленная знаменитым доктором, который появляется в конце романа – слишком поздно, чтобы спасти Эмму, но он способен сразу оценить ситуацию. Толстой любит Анну как воплощение искреннего чувства, но и относится к ней как к свободному участнику действия, не снимая с нее ответственности за собственную гибель. Только в самом конце жизни Эмма должным образом оценивает преданность ей Шарля. (Она так и не замечает юношеской любви Жюстена, племянника месье Оме.) У Анны, в противоположность ей, не раз по ходу действия возникает возможность прислушаться к голосу совести, борющемуся с другими, более громкими и определяющими ее поведение голосами, но она сознательно не делает этого. (В состояние нравственного смятения она приходит, оставив мужа, но не требуя развода и страдая от разлуки с сыном, сожительствуя с Вронским.) У нее есть возможность сделать выбор, возвыситься над самым простым – личными интересами и себялюбием, – и, бросаясь под поезд, она все еще обдумывает различные варианты. Даже как существо эмоциональное Анна отличается от Эммы. Органичная для нее любовь к жизни, вспыхивающая в финале, по своей природе нравственна, тогда как для Флобера подобная любовь к жизни внеморальна. Толстой, таким образом, судит Анну более жестко, чем Флобер – Эмму, но при этом в большей степени, чем Флобер, признает ее личностное достоинство и права.
Для всех троих: Тургенева, Достоевского и Толстого – характерно сложное отношение к сфере субъективности, что оказало влияние на все аспекты русского психологического реализма. «Я», которое создают русские реалисты, составлено из вещества, не видимого под микроскопом, и его существование оказывается для нас достоверным только потому, что его мотивирующую власть мы чувствуем в самих себе. Европейский натуралистический реализм Нового времени, тесно связанный с наукой, имеет, напротив, редукционистскую тенденцию, склонность к недооценке или искажению внутренней жизни персонажа. В русском реализме объективирующая дистанция сокращается автором до предела – в результате субъект сохраняет оригинальные «субъективные» внешность и сложность. Проще говоря, минимальные, неразложимые факты, которые подвергает анализу русский автор, шире тех, которые входят в область рассмотрения науки, так как автор рассматривает сферу чувств субъекта с той же степенью серьезности, что и сферу его мыслей и действий. Поскольку у человеческих существ есть прямой доступ только к их собственным чувствам, автобиографичность прозы, которую мы будем рассматривать, будет в силу этого зависеть от способности автора исследовать самого себя. Защита сферы субъективности поставила уникальную проблему: как русские авторы, так и их читатели должны были до известной степени сопротивляться искушению анализировать то, что им открылось в дивном новом мире психики. В то же время они обязаны были избегать и самолюбивой сентиментальности. Произведения русского реализма должны были стать объективно правдивыми и вместе с тем сочувствующими субъективности.
Русский психологический реализм способствовал созданию основ того, что Лурия первым назвал «романтической наукой», которая признает факты субъективности в той же степени «реальными», как и факты, полученные путем эмпирических наблюдений [31] См. Halliwell М. Romantic Science and the Experience of Self: Transatlantic Crosscurrents from William James to Oliver Sacks. P. 14–15.
. Этим объясняется, почему такие мыслители, как Уильям Джеймс в Америке и Зигмунд Фрейд в Вене, признавали свой долг перед ним. Именно поэтому – отвечая на вопрос, поставленный ранее, – люди все еще читают сегодня русские романы. Корни русского психологического романа можно обнаружить и в романтизме: подобно немецким авторам, чей опыт они в этом смысле повторяли, русские реалисты интерполировали в романы анализ и теоретизирование, однако избегали следования системам. Постижение разумно-рациональной сферы русские авторы не предпочитали проникновению в глубину чувств, но рассматривали обе сферы как взаимодополняющие [32] О немецком романтизме в этом аспекте см. Engelhardt Dietrich von. Romanticism in Germany // Romanticism in National Context I Ed. by. K. Porter and M. Teich. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 109–133.
. Лермонтовский «Герой нашего времени» с его сложной репрезентацией героя, Печорина, во многих смыслах был в этом плане ласточкой, приносящей весну. Как мы увидим в последующих главах, в самой структуре русской психологической прозы субъективность может быть отражена по-разному – как результат различных комбинаций ума и чувства.
Глава первая
Личностное сознание в русской литературной традиции, его истоки и национальная специфика
…Рефлексия – наша сила и наша слабость, наша гибель и наше спасенье… Рефлектировать значит по-русски «размышлять о собственных чувствах» [33] Тургенев. Соч. Т. 1. С. 224 («Фауст, трагедия, соч. Гёте»).
.
…С внутренним раздором, без краеугольного камня нравственному бытию человек не может жить [34] Начальная страница статьи Герцена «Дилетантизм в науке» (1843) (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 3. М.: АН СССР, 1954. С. 7).
.
В русской психологической прозе на первый план выходит проблема личностного сознания и его следствий. Этой характерной особенностью она отчасти обязана тому, что представление об индивидуализме оформилось в России под влиянием иностранных образцов. Воспитанные в обществе, предпочитавшем общественное индивидуальному, русские не могли полностью усвоить ту модель поведения, которая их восхищала и которой они подражали, поэтому они наблюдали за собой с некоторой дистанции и с некоторой долей иронии. Как имитация европейских поведенческих образцов, так позднее и ее психологические следствия составили в русской беллетристике широко известную тему. В данной главе я прослеживаю эту тему, начиная с Карамзина, включая Пушкина и Лермонтова и вплоть до Тургенева, Достоевского и Толстого. В конце главы я рассматриваю еще один важнейший элемент, повлиявший на развитие русской психологической прозы, а именно присутствие в интеллектуальной атмосфере 1840-х трансцендентальной мысли и ее роль в формировании понятия личности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: