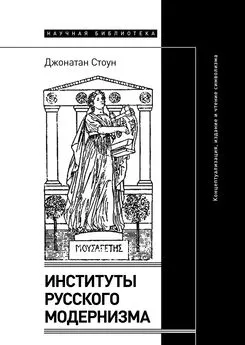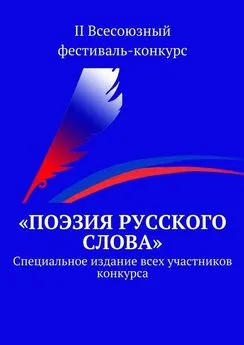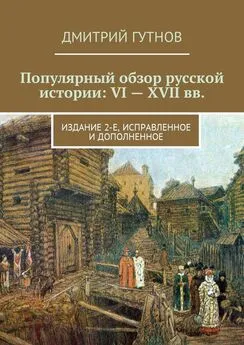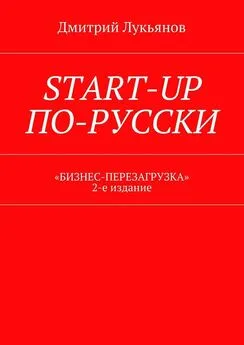Джонатан Стоун - Институты русского модернизма. Концептуализация, издание и чтение символизма
- Название:Институты русского модернизма. Концептуализация, издание и чтение символизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:9785444820643
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джонатан Стоун - Институты русского модернизма. Концептуализация, издание и чтение символизма краткое содержание
Институты русского модернизма. Концептуализация, издание и чтение символизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если зарождавшуюся групповую культуру русского символизма полнее всего воплощали Брюсов и Бальмонт, то публичное его восприятие было неразрывно связано с рядом других фигур. Три наиболее видных из них – Мережковский, Гиппиус и Сологуб – в моем обсуждении символизма упоминаются редко. Все они были активными и широко известными модернистами (которых в печати нередко пренебрежительно именовали декадентами), но их попытки организации русских поэтов и художников были оторваны от брюсовских. Поскольку я сосредоточиваюсь на брюсовской (московской) сфере влияния, то к этим трем авторам обращаюсь реже, чем к другим. В этом проявляется отличие моего подхода к символизму от типичных историй движения в целом или отдельных его представителей. Для книги о русском символизме есть много потенциальных отправных точек. Появление переводной французской литературы в русской периодике 1880–1890‐х годов; протомодернистская поэзия и очерки Николая Минского; ранние публикации Гиппиус и Сологуба в «Северном вестнике»; статья Венгеровой о французских символистах; «Символы» Мережковского и его книга под названием «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (обе 1892) – все это заложило основы русского символизма. Но не эти люди и не эти вехи находятся в центре моего исследования. Я сосредоточиваюсь на Брюсове с продвигаемыми им «Русскими символистами» потому, что именно здесь, по-моему, концепция символизма проступает наиболее четко. Мой рассказ о русском модернизме опирается на те группы и пространства, которые определили его в глазах публики. С этой точки зрения символисты брюсовского круга были наиболее активными и целеустремленными пропагандистами символистского «бренда». Но Мережковский, Гиппиус и Сологуб тоже способствовали закреплению идеи символизма и декадентства в общественном сознании начала 1890‐х годов.
Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) стал одним из первых теоретиков и практиков нового искусства. В его произведениях прозвучали ключевые понятия, необходимые для становления в России эстетистской доктрины искусства ради искусства. Творчество Мережковского обнаруживало глубокий интерес к связям между западной (особенно римской и ренессансной) и российской культурами и историями. Вместе со своей женой Зинаидой Гиппиус Мережковский, пусть и не сыгравший столь же важной роли для расцвета русского модернизма, сколь пришедшие вслед за ним поэты, находился в самой гуще литературно-интеллектуальной жизни России конца XIX – начала XX века. Выступая наставниками младшего поэтического поколения, супруги также осуществили ряд важных публикаций (в частности, они были сотрудниками легендарного журнала «Мир искусства»). Без Мережковского русская литература оказалась бы плохо подготовленной к преодолению пропасти между утилитарными традициями литературы XIX столетия и характерным для русской поэзии начала XX века преимущественным тяготением к художественности.
Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) принадлежала к первым и наиболее заметным поэтам русского символизма. Ее стихи 1890‐х годов явились одним из первых в русской поэзии воплощений макабрической и орнаментальной тем декадентства, равно как и характерных для символистской литературы идеализма и интереса к потустороннему. Кроме того, Гиппиус играла важную роль в воспитании молодого поколения модернистов и содействовала изданию многих важнейших авторов тех лет. Они с Мережковским были в числе инициаторов нескольких интеллектуально-религиозных кружков, прежде всего Религиозно-философских собраний 1901–1903 годов. Ее собственное творчество отмечено рядом главных принципов европейского эстетизма. Такие раскрывающие символистский взгляд на мир стихотворения, как «Песня» (1893) и «Швея» (1901), воспевают космическую взаимосвязь всего сущего и мистическую силу языка. Подобно другим символистам старшего поколения, Гиппиус успешно соединяла художественные маски со своей биографической личностью. Обращалась она и к вопросам пола и сексуальности – и в качестве автора (в ее творчестве нередко встречается гендерная неоднозначность), и в качестве видной участницы авторитетных культурных кругов и общественных дискуссий. Русская интеллектуальная жизнь рубежа веков непредставима без Гиппиус, а ее поэзия глубоко повлияла на эстетические тенденции и общественное восприятие русского модернизма.
Еще один ключевой представитель старшего поколения русских символистов, Федор Сологуб (настоящее имя Федор Кузьмич Тетерников, 1863–1927), внес большой вклад как в формальное, так и в содержательное изменение русской литературы начала XX века. Связь Сологуба с модернизмом проявляется в преобладании поэтического творчества, выраженной субъективности, отражающей нестабильность современной психологии и современного характера, и тематических отсылках к потустороннему миру и злу. Последняя черта, также роднящая Сологуба с художественной традицией декадентства, станет отличительным признаком его поэзии и прозы. Ранняя сологубовская поэзия сочетает символистскую неудовлетворенность сферой феноменального (рассматриваемой как тюрьма) с декадентской тягой к колдовству, черной магии и злым духам. Поэт создает чрезвычайно солипсический лирический голос, в подробностях излагающий мрачные взгляды на человеческую природу и жизнь, говорящий о стремлении убежать от мира при помощи снов, легенд, искусства и магии. Стихи Сологуба свидетельствуют о том, как далеко он отошел от реализма поэзии и прозы второй половины XIX века. Вместе с тем он мог обращаться к указанной традиции и напрямую, в частности в главном своем романе «Мелкий бес». Это произведение укрепило позиции Сологуба как посредника между XIX и XX столетиями и выразителя нового для русской литературы интереса к духовным и эпистемологическим вопросам, определяющим модернистское мышление.
Более прямое отношение к моей интерпретации раннего русского символизма имеют гораздо менее знаменитые, чем Мережковский, Гиппиус и Сологуб, поэты 1890‐х годов. Речь идет о странных, эксцентричных авторах, существовавших на периферии русской культуры fin de siècle . Особое внимание я уделяю двум краям этого спектра, серьезному и смешному; оба снискали известность у русских читателей. Архидекадент Александр Добролюбов (1876–1945) и фигляр Александр Емельянов-Коханский (1871–1936) одинаково сильно повлияли на раннее восприятие модернизма в России. Добролюбов воспевал философско-эзотерическую сторону нового искусства. Его нарочито непонятное для широкой публики творчество вместилось в три основных – и в свое время очень влиятельных – книги стихов, выпущенных с 1895 по 1905 год. Нарастающая склонность к духовному поиску привела его к страннической жизни вдали от культурных и литературных центров модернизма. Время от времени он, вновь появляясь в Москве и Петербурге, отыскивал старых знакомцев-символистов. Когда в середине 1930‐х годов он нанес визит вдове Брюсова, то позиционировал себя в качестве вполне советского писателя, желающего начать свою литературную карьеру заново. Последние произведения Добролюбова, сохранившиеся в архивах, превозносят пролетариат и историю социализма. Емельянов-Коханский, в 1890‐е тоже пользовавшийся определенной популярностью, закончил свои дни в сталинскую эпоху. Как пародист и скандалист он часто мелькал в популярной печати конца XIX века. Плодом его недолгого сближения с молодым русским символизмом стала книга стихов «Обнаженные нервы» (1895), одновременно славившая новое искусство и глумившаяся над ним. Вскоре Емельянов-Коханский разошелся с русскими модернистами и продолжил свой творческий путь как плодовитый автор скандальных сборников сенсационных рассказов. В начале XX века он, свыкшийся со своей ролью шута, редактировал дешевый юмористический журнал. На склоне жизни писатель, чье душевное здоровье стало ухудшаться, занимался подбором иллюстраций для советских газет и журналов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: