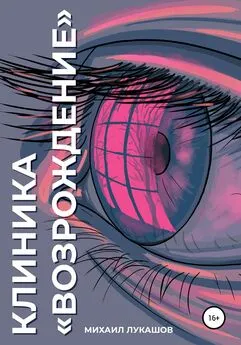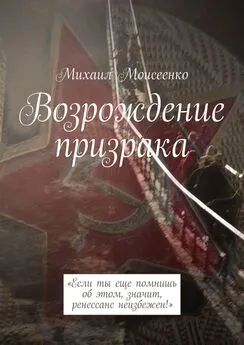Михаил Вайскопф - Агония и возрождение романтизма
- Название:Агония и возрождение романтизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-2039-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Вайскопф - Агония и возрождение романтизма краткое содержание
Агония и возрождение романтизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Словно чопорный германец
При ботфортах и косе,
Неуклюжий дилижанец
По немецкому шоссе [96] Вяземский П. А. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1986. С. 259.
.
В повести 1835 года «Письма из Дерпта», подписанной буквами А. в. м. л., стремительная русская езда противопоставляется медленной чухонской и немецкой:
Наша русская езда – любо, что за езда! Это поэма !.. Ямщик вскочил на козлы, и все жилки в нем заговорили <���…> А этот колокольчик- ревун <���…> а эти борзые кони, понимающие малейшее движение шапки, рукавицы своего хозяина, бегущие однообразною, как грусть, рысью, когда он поет грустную песню, – и с места марш-марш , когда он вдруг грянет плясовую! <���…> Ясно, что на святой Руси, по ее обширности, по отдаленности городов одного от другого, более, чем в каком-либо государстве долженствовала развиться поэзия езды. Русский нетерпелив; ему бы тяп да ляп: да и состроился корабль [97] Ср. бричку у Гоголя: «…наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик».
; вот начало скорости езды в России <���…> Дорожный русский сосредоточивает свои мысли и чувствования в теме песни;
Взгляни на русского извозчика <���…> вся душа его перешла в звуки песни, которую он поет…
Да! Скажем с восторгом: сильна, могуча Русь! Богатырская кровь течет в жилах сынов ее [98] Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1835. № 18. С. 138–139.
.
Думаю, приведенными примерами можно вполне ограничиться, чтобы показать небесполезность такого рода текстологических разысканий и пригласить к ним уважаемых коллег-гоголеведов. На этом поприще еще предстоит немало работы.
2005, 2019«Мрачные образа»
Об одном источнике двух повестей гОголя – «Портрет» и «Вий»
Между «Вием» и «Портретом», впервые напечатанными почти одновременно [99] Ценный историко-литературный анализ этих текстов дан в новых академических изданиях; развернутый комментарий к «Портрету» см. там же: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. Т. 3. М.: Наука, ИМЛИ РАН, 2009. С. 594 и сл. (С. Г. Бочаров и Л. В. Дерюгина); Гоголь Н. В. Миргород. СПб.: Наука, 2013. С. 475–483 (сост. и комм. В. Д. Денисов); к «Вию»: Гоголь Н. В. Арабески. СПб.: Наука, 2009. С. 393–400 (сост. и комм. В. Д. Денисов).
, имеется самоочевидное сюжетное сходство, удержанное, с теми или иными вариациями, в последующих изданиях обеих повестей. В предлагаемом разборе я абстрагируюсь от этой их эволюции, не слишком существенной для заявленной темы, а равно и от многих нерелевантных сторон их сложного и противоречивого идеологического генезиса. При любом раскладе эти тексты сближает культурная универсалия, прочно усвоенная романтизмом: смертоносные силы воплощаются в самом мертвеце [100] На пушкинском материале эта тема освещалась в моей очень ранней (1983) работе «Вещий Олег и Медный всадник» ( Вайскопф М. Птица тройка и колесница души: Работы 1978–2003 гг. М.: Новое литературное обозрение, 2003).
.
В «Портрете» художника убивает изображение умершего ростовщика, пробудившего в нем греховные страсти; «философа» в «Вие» – погибшая панночка и соприродные ей подземные духи. Куда интересней, что в обоих случаях демонический губитель замещает собой сакрального персонажа, с которым сохраняет тем не менее отчетливое родство. В своей давней книге о Гоголе я уже приводил весьма подробные аналогии, с одной стороны, между антихристом-ростовщиком и святым старцем – отцом художника из «Портрета»; а с другой – между Вием и Богом-Отцом (еще один сюжетный заместитель Всевышнего – отец панночки, спор которого с Хомой представляет собой аллюзию на диалог Бога с Моисеем из Исх. 3 и 4) [101] Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. Изд. 2-е. М.: РГГУ, 2002. С. 209, 218–220; 484–485.
. Но и лежащая в гробу красавица-ведьма, плачущая в церкви кровавыми слезами, напоминает о сакральных прецедентах – от кровавого пота в Молении о чаше (Лк. 22: 44) до слезоточивых икон. Симптоматичен, естественно, и соответствующий локус «Вия» (позаимствованный, как известно, из баллады Р. Саути) – церковь с ее мрачными образами, ставшая вместилищем бесов. В религиозно-генетическом плане перечисленные схождения указывают прежде всего на зависимость писателя от так называемого языческого синкретизма, по большей части еще не знавшего жесткой дихотомии небесных и инфернальных начал, свойственной христианскому вероучению, – оттого, собственно, они с такой неимоверной легкостью перетекают у Гоголя друг в друга, пугая героев и самого рассказчика.
Ощущение этого праединства, часто вступавшее у автора в конфликт с новозаветным дуализмом, также было не его персональной особенностью, а достоянием мощной традиции. Смешение сакрального и демонического вечно угнетало или тревожило бесчисленных духовидцев, которые приписывали свои страхи козням дьявола. По сути дела, в гоголевских повестях мы сталкиваемся с фамильной приметой всей романтической школы, истово тянувшейся к этой архаике. Достаточно напомнить, что готический и романтический сюжет об оживающем бесовском изображении, использованный в «Портрете», представляет собой инверсию старых церковных преданий о чудотворных иконах [102] См. в комментарии В. Д. Денисова к «Портрету» (ссылка на работу В. Кошмаля): Гоголь Н. В. Арабески. С. 299.
. Но ведь и эти истории, в свою очередь, восходят к античным повествованиям о чудотворных статуях – к легендам, заново востребованным романтизмом, который с готовностью придавал им демонологическое звучание. Подобные нарративы, подернутые балладным колоритом, при случае легко вбирали в себя и мотив движущегося трупа, изофункционального губительному изображению.
Демонизация, однако, нередко вытеснялась обратным процессом, ибо обожествление эротического объекта, присущее романтической поэтике в целом, тоже находило адекватное выражение в рассказах об оживающих картинах или статуях. В русской прозе догоголевской и гоголевской поры покойная жена либо возлюбленная героя, запечатленная в ее портрете, бюсте и т. п., зачастую выступала в амплуа Пречистой Девы [103] Подробнее об этом см.: Вайскопф М. Влюбленный демиург. С. 626–639.
. Религиозное сознание тем не менее продолжало двоиться, граница между святым и бесовским оставалась размытой. Мадонна всегда могла обернуться ведьмой, а ведьма – Мадонной. Проблема не имела решения, но его суррогаты предлагал уклончиво иронический бидермайер, уже расплодившийся в русской культуре [104] См.: Nemoianu V. The Taming of Romanticism: European Literature and the Age of Biedermeier. Harvard UP, 1984. P. 137 ff.
.
С этим изводом немецкого романтизма тесно соприкасался и Гоголь. Чрезвычайно важным общим импульсом для его «Портрета» и «Вия» послужила, несомненно, повесть Павла Сумарокова «Белое привидение, или Невольное суеверие», изданная в начале 1831 года [105] Денница. Альманах на 1831 год, изданный М. Максимовичем. Последующие цитаты отсюда даются без дополнительных уточнений.
. Видимо, она стала, кроме того, посредующим звеном между балладой Саути и «Вием», опубликованным через четыре года после «Привидения».
Интервал:
Закладка:

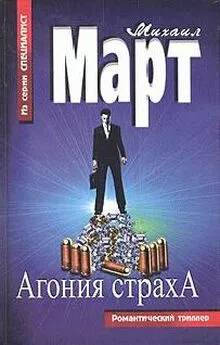


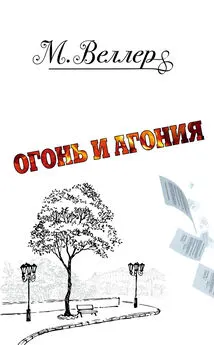
![Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]](/books/1143106/mihail-vajskopf-pisatel-stalin-yazyk-priemy-syuzhety-3-e-izd.webp)