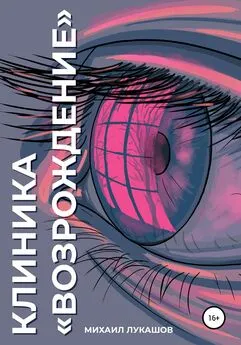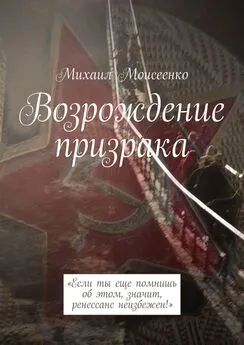Михаил Вайскопф - Агония и возрождение романтизма
- Название:Агония и возрождение романтизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-2039-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Вайскопф - Агония и возрождение романтизма краткое содержание
Агония и возрождение романтизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
6. Озадаченный его внезапным артистизмом («Мне кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия»), покупатель, однако, возвращает разговор на почву настоящего положения дел. Обходя молчанием скользкую тему души, он снова напоминает, что «это все народ мертвый» и что на деле Собакевич рекламирует сейчас именно трупы, не имеющие решительно никакой денежной ценности: «Мертвым телом хоть забор подпирай».
7. Тогда Собакевич использует уничижительную метафору, которая приближает сегодняшних никчемных людей к нежити – а не мертвых к живым, как было у него раньше; в любом случае, этот прием, сопряженный с канцеляризмом, почти что уравнивает их между собой. Его коммерческий напор возвращается как бы с обратной стороны: «Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди».
8. Дезавуируя торгово-поэтический пафос собеседника, Чичиков переводит разговор в другую плоскость, где те же мертвые души – всего лишь ничто (то есть «несуществующие», по его прежнему определению), в отличие от этих убогих людей: те все же «существуют, а это ведь мечта».
9. В ответ Собакевич в заключительном приступе коммерческого вдохновения вновь актуализирует дивную мощь покойников: «Нет, это не мечта!»
Как бы то ни было, усопшие продолжат свое авантюрно-фантасмагорическое существование в ином, уже сдвоенном универсуме – одновременно потустороннем и здешнем: в том гипотетическом и потому безграничном мире, который созидался для них и в рекламных песнопениях Собакевича, и в последующих грезах самого Чичикова, проводящего смотр всем купленным душам, зачитывая их имена. В его творческих домыслах, намного более размашистых, чем «театральное представление», разыгранное Собакевичем, зерном их красочных биографий становится некая элементарно-психологическая константа, удержанная в «неосязаемом чувствами звуке». Для этого жизнетворно-загробного эпоса ценна любая подробность – и воображаемая, и настоящая, годится любая зацепка: «Каждая из записочек имела какой-то особенный характер, и чрез то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер». – Следует обширная панорама таких «характеров», воплощенная в серии микросюжетов.
Пресловутые алогизмы, которыми изобилует гоголевское творчество и которыми еще столетие с лишним назад занимался в Гельсингфорсе И. Мандельштам, сами по себе здесь мало что объясняют. В «Вие» даны разговоры, почти неотличимые от концовки «Носа» (см. ниже) и все же чрезвычайно многозначительные в своей акцентированной бессмыслице:
– И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем, – то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает что. Вот что!
Ср. далее беседу Хомы Брута с казаками о «соразмерном экипаже», в котором его везут потом на роковой хутор к мертвой панночке:
…Любопытно бы знать, – сказал философ, – если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром – положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней ?
– Да, – сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, – достаточное бы число потребовалось коней.
Мы твердо ощущаем, что есть нечто общее между этим набором несуразицы и теми потусторонними сферами, которые потом во время ночной скачки на прекрасной панночке разверзаются перед малоосмысленным взором бурсака; но в чем именно заключается эта близость, установить трудно. Ясно лишь, что полнейшей неопределенности значений, предполагаемых пустым диалогом, соответствует бесконечность или, скорее, нелокализуемая широта ночных метаморфоз [127] См. замечание Лотмана: «В космическом мире „Вия“ человек не может существовать потому, что здесь сняты все пограничные столбы и все качества амбивалентны» ( Лотман Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. Таллин: Александра, 1992–1993. Т. 1. С. 437).
, гибельных для Хомы. Абсурдизм реплик – как бы семантический ноль повести, который разлагается на ошеломляющий плюс – неимоверно-страшную красоту юной ведьмы и на такой же минус: ее загробное окружение в церкви; и рай ночного ландшафта, и трупная преисподняя сюжета равно невыносимы для героя, но равно открыты для его пустого сознания.
Общеизвестным катализатором для спонтанно саморазвивающейся фантастики в гоголевской прозе 1830-х годов служат досужие разговоры и сплетни. Не мешает, однако, внимательнее присмотреться к их модальному устройству. Ведь эти заведомо не верифицируемые слухи обычно имеют под собой все же какую-то минимальную – нулевую или, точнее, почти нулевую – основу, какой-либо коллективно-безымянный или же персонифицированный источник. Зачатый им фантом истины разрастается в нескончаемую круговерть призраков, отпущенных на сюжетный простор, – и тогда к базовой «несбыточности» «Носа» прибавляются другие «нелепые выдумки», по выражению негодующего резонера. Происходит нечто подобное тому, что мы наблюдали в споре Чичикова с Собакевичем: нужен лишь минимальный, порой чуть заметный толчок для головокружительных виражей мнимого бытия.
В концовке «Носа» мы встречаем подборку благонамеренных, но озадаченно-недоговоренных рассуждений. Безотносительно к эпатажному раздвоению рассказчика автокомментарий к поведанной им «истории» смещается в ту же семантическую зону неисследимых несуразностей, что и сам сюжет:
Но что страннее, что непонятнее всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это…
С другой стороны, тонко градуированное затем размышление о « неправдоподобности » действия – взамен полнейшей его невозможности – парадоксально придает содержанию налет достоверности. В размытой ауре финального ретрокомментария совершенно немыслимое, логически нулевое «происшествие» фактически повышается в модальном статусе:
Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появленье его в разных местах в виде статского советника, – как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе <���…> Неприлично, неловко, нехорошо!
(Следует недоумение и по поводу того, как, собственно, «нос очутился в печеном хлебе» у цирюльника.) Гоголь как бы заговаривает, усыпляет внимание читателя, отвлекая его от того, что «сверхъестественное», слитое с рядовой «странностью», тем самым получает и определенное право на существование. Иначе говоря, здесь, в концовке повести, взрывное разрушение реальности прикровенно легитимизируется благодаря его простому соположению с куда менее шокирующим ее подрывом – нарушением социально-этикетных условностей. Практически так же строится, однако, и весь сюжет повести с ее зачином насчет « необыкновенно странного происшествия»; но в заключительных ее строках прием педалирован:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

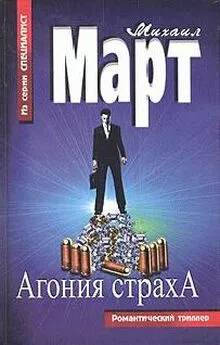


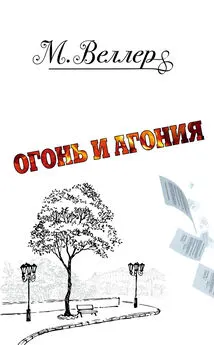
![Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]](/books/1143106/mihail-vajskopf-pisatel-stalin-yazyk-priemy-syuzhety-3-e-izd.webp)