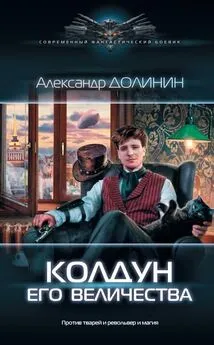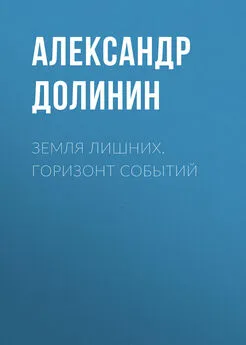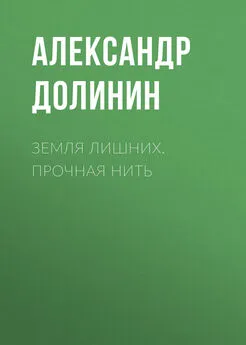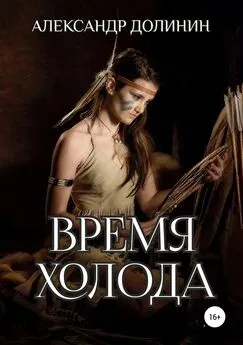Александр Долинин - О Пушкине, o Пастернаке. Работы разных лет
- Название:О Пушкине, o Пастернаке. Работы разных лет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:9785444820292
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Долинин - О Пушкине, o Пастернаке. Работы разных лет краткое содержание
О Пушкине, o Пастернаке. Работы разных лет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1835 году Пушкин вернулся к незаконченному тексту, переменил в нем несколько стихов, отрезал последнюю часть и вставил его в пятую главу «Путешествия в Арзрум» с мистифицирующим предуведомлением:
Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный, восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу.
Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут – и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.
Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил.
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.
В нем веры чистый жар потух.
В нем жены по кладбищам ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят,
И спит подкупленный евнух.
Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум;
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.
Постимся мы: струею трезвой
Святые воды нас поят:
Толпой бестрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят.
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны
И смирно жены там сидят.
В. А. Жуковский напечатал СГ-1830 в девятом томе «Сочинений Александра Пушкина» под названием «Начало поэмы», данным стихотворению, вероятно, по фразе из «Путешествия в Арзрум»: «Вот начало сатирической поэмы». Сразу же после СГ-1830 помещен черновой незаконченный набросок «Кромешник» («Какая ночь! мороз трескучий…», 1827), где описана московская площадь после казни в годы опричнины. По-видимому, Жуковский хотел обратить внимание читателей на сходство четырех стихов в соседствующих текстах:

Вариант, напечатанный Жуковским, имел некоторые отличия от дошедшего до нас автографа (по которому СГ-1830 с конца XIX века печатается в собраниях сочинений Пушкина), что, по мнению П. В. Анненкова, доказывало «существование другого, чистого оригинала, не находящегося в бумагах поэта» 157. Сам Анненков в «Сочинениях Пушкина» дал контаминированную редакцию СГ-1830 без названия. «Это совсем не Начало поэмы, – писал он в примечании, – а <���…> стихотворение, порожденное случаем, и при том это черновой оригинал той самой пьесы, которую Пушкин в 1836 году поместил в своем путешествии в Арзрум, приписав ее там выдуманному лицу – Янычару Амин-Оглу. <���…> по энергии стиха и выражения, этот первый очерк чуть ли не выше последующей переделки, и конечно мрачная картина, представляемая окончательной строфой, никак не заслуживала исключения, какому подверг ее Пушкин» 158.
В довольно обширной литературе о СГ нередко повторяются одни и те же ошибки. Исследователи, как правило, не делают различий между двумя версиями стихотворения, относя мистифицирующее предуведомление из «Путешествия в Арзрум» к СГ-1830, а аллюзии на расправу над янычарами – к СГ-1835. Между тем отсутствие упоминаний о ликвидации янычаров и введение маски автора в СГ-1835 меняют временную перспективу повествования. Если безымянный нарратор СГ-1830 выступает со своими обличениями столичных нравов послесобытий 1826 года (ср.: « Тогданас буря долу гнула»; « Тогдасултан / Был духом гнева обуян»), то для СГ-1835 подобная временная локализация оказывается невозможной. Приписывая «начало сатирической поэмы» янычаруАмин-Оглу (единственное в «Путешествии в Арзрум» употребление слова, которое, как мы помним, было в 1826 году запрещено султаном), Пушкин относит его обличительный монолог к неопределенному прошлому, когда янычары еще благоденствовали и открыто выражали недовольство модернизационными нововведениями султана и его сближением с «гяурами».
Кроме того, о СГ-1830 без всяких на то оснований часто говорят как о законченном тексте. Еще Н. И. Черняев в конце XIX века утверждал, что «трудно себе представить что-либо законченнее», чем это стихотворение 159. Как ни странно, его точку зрения разделяют и некоторые современные ученые, не обращающие внимания на очевидный обрыв только начатого рассказа о беглом янычаре, который явно требует продолжения. Даже В. А. Кошелев, исходящий из верной посылки о принципиальных различиях между СГ-1830 и СГ‐1835, полагает, что оба варианта суть « вполне законченные произведения » 160.
Текстологически обосновать тезис о завершенности СГ‐1830 попытался американский ученый У. Викери, но его аргументация основана на недоразумении. Он считает, что беловой автограф стихотворения (ПД 917) 161заканчивается многоточием (подобно таким произведениям Болдинского периода, как «Герой» или «Для берегов отчизны дальней…»), и, следовательно, речь может идти о недосказанности, которая отнюдь «не равняется незавершенности» 162. На самом же деле рукопись заканчивается не точками, а тремя звездочками (de visu) – то есть знаком разделения строф, указывающим, что Пушкин предполагал продолжить текст по крайней мере еще одной частью.
Критика XIX века видела в СГ-1830 пример пушкинского протеизма, его способности перевоплощаться в людей других времен, народов и конфессий, – замечательный ориенталистский пастиш, стоящий в одном ряду с «Подражаниями Корану». Еще Белинский отметил, что стихотворение «как будто написано турком нашего времени» 163. Эту мысль развил Н. Черняев, писавший:
Каждый стих этого превосходного стихотворения проникнут чисто турецким религиозно-национальным фанатизмом, чисто турецкой гордостью, самоуверенностью, воинственностью, чувственностью и апатией <���…> как бесподобно передал поэт все самые сокровенные помыслы завзятого турка, нетронутого европейской цивилизацией» 164.
В советское время СГ-1830 начали читать как политическую аллегорию с несколькими замаскированными русскими проекциями. Первым подобное прочтение предложил Д. Д. Благой в ранней книге «Социология творчества Пушкина» 165. Ключом ему послужила хитрая фраза из «Путешествия в Арзрум»: «Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество как между Казанью и Москвою». Поскольку никакого соперничества между Москвой и Казанью русская культура со времен Ивана Грозного не знала, Благой справедливо усмотрел здесь намек на действительно важную для Пушкина (и всей русской культуры) антитезу «Москва – Петербург», а в стихотворении – завуалированное рассуждение о конфликте «между двумя русскими городами – „главным городом“ старой „Азиатской России“ – гнездом „закоренелой старины“, „упрямого сопротивления“ нововведениям Петра I – и новой приморской столицей, явившейся опорой этих нововведений» 166. Оно напомнило исследователю как «Мою родословную», тоже написанную в Болдинскую осень, с ее темой противостояния древней русской аристократии реформам Петра, так и пассаж в «Путешествии из Москвы в Петербург», где соперничество между Москвой и Петербургом отнесено к прошлому 167.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: