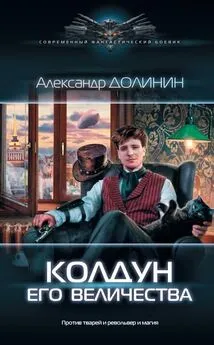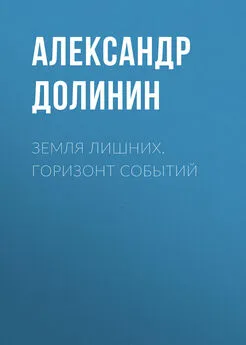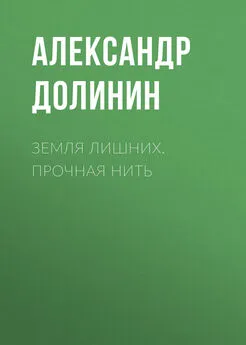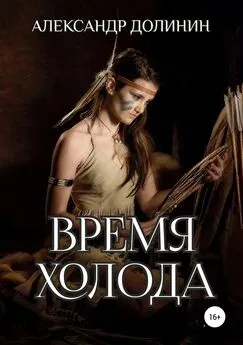Александр Долинин - О Пушкине, o Пастернаке. Работы разных лет
- Название:О Пушкине, o Пастернаке. Работы разных лет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:9785444820292
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Долинин - О Пушкине, o Пастернаке. Работы разных лет краткое содержание
О Пушкине, o Пастернаке. Работы разных лет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В контексте «Путешествия в Арзрум» Дарьял приобретает символическое значение границы между двумя мирами, или, точнее, ворот, открывающих и запирающих проход из своего в чужое, из освоенного в неизвестное. Недаром Пушкин, вопреки пояснениям Юлиуса-Генриха Клапрота, самого авторитетного кавказоведа эпохи, настаивает на том, что «Дариал на древнем персидском языке значит „ворота“» 319и что упомянутые у Плиния «Кавказские врата», замыкавшие ущелье, находились именно здесь [VIII: 452] 320. Тот же образ ущелья как врат появляется и в двух пушкинских незаконченных стихотворениях, написанных уже после «Путешествия в Арзрум»: «Когда владыка ассирийский…» (1835) на сюжет из ветхозаветной «Книги Юдифи» и «Альфонс садится на коня…» (1836) на сюжет из «Рукописи, найденной в Сарагосе» графа Потоцкого. В первом случае замкнутые врата не позволяют вражескому войску подняться вверх к Ветилуе, иудейскому городу на горе:
Притек сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным;
Стеной, <���как> поясом узорным,
Препоясáлась высота.
И над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.
Во втором – бесстрашный герой едет «ущельем тесным и глухим», откуда попадает в долину, где видит виселицу с мертвыми телами двух разбойников – виселицу, под которой он, как мы знаем из романа, будет потом много раз просыпаться:
<���…> Перед ним
Одна идет дорога в горы
Ущельем тесным и глухим.
Вот выезжает он в долину;
Какую ж видит он картину?
Кругом пустыня, дичь и голь,
А в стороне торчит глаголь,
И на глаголе том два тела
Висят. Закаркав, отлетела
Ватага черная ворон,
Лишь только к ним подъехал он.
В «Путешествии в Арзрум», как и в «Альфонс садится на коня…», врата ущелья оказываются незамкнутыми, а за ними открывается манящий, но опасный путь, проходящий через несколько естественных и символических границ и ведущий автора все дальше и дальше от «своего» к неизведанному «чужому». Хотя путь этот лежит через горы, в его описании символика верха и низа почти начисто отсутствует, а на первый план выходят мотивы перехода (само слово встречается в тексте десять раз) и движения вперед. В этом смысле Пушкина-путешественника уместно сопоставлять не с Данте, а с Улиссом, который в песни XXVI «Ада» рассказывает о своем последнем путешествии в «необитаемый мир» («mondo sanza gente») за Геркулесовыми столбами, или «вратами», как их называл Пиндар. В конце пути его корабль приблизился к горе чистилища, но был встречен сильным ветром и пошел ко дну. По замечанию Ю. М. Лотмана, путь Улисса – «своеобразного двойника Данте» – «единственное в „Комедии“ значимое движение, для которого ось „вверх-вниз“ нерелевантна: вся трасса развертывается в горизонтальной плоскости». Это подчеркивает принципиальное различие между двумя «героями пути», пересекающими запретные границы:
…дантовское знание сопряжено с постоянным восхождением познающего по оси моральных ценностей <���…> Жажда знания у Улисса внеморальна <���…> Даже Чистилище для него – лишь белое место на карте, а стремление к нему – путешествие, движимое жаждой географических открытий. Данте – паломник, а Улисс – путешественник 322.
Пушкина-путешественника тоже гонит вперед внеморальная жажда запретного и неизведанного, которую он называет «демоном нетерпения». Лишь однажды, при виде горы, которую Пушкин по ошибке принимает за легендарный Арарат, в нем пробуждается интерес к сакральному верху: «Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни, и врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения» [VIII: 463] 323. Однако стремление ввысь сразу же сменяется стремлением вдаль, как только Пушкин подъезжает к реке Арпачай, по которой проходила граница между Российской и Османской империями:
Перед нами блистала речка, через которую мы должны были переправиться. Вот и Арпачай, сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. <���…> Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег [VIII: 463].
Торопясь в «чуждые пределы», рассказчик ни разу не занимает позицию «превосходительного покоя», с которой Пушкин-поэт взирал на Кавказ в одноименном стихотворении («Кавказ подо мною. Один в вышине / Стою над снегами у края стремнины; / Орел, с отдаленной поднявшись вершины, / Парит неподвижно со мной наравне…» [III: 196]) 324; напротив, он всегда беспокоен, нетерпелив в своей жажде все новых впечатлений, безрассуден перед лицом опасностей, которые подстерегают его на каждом шагу. За Дарьяльскими вратами Пушкин проезжает те места, где «страшная глыба» кого-то убила, где горцы обстреляли путешественников; он спускается по «опасной дороге»; ему грозят «ужасная горячка» и чума, преследующая его с самого начала и до самого конца пути. Опасности и угрозы смерти нарастают крещендо, достигая апогея, как и следовало ожидать, на театре военных действий. Здесь Пушкин дважды попадает «в жаркое дело», едва не гибнет под копытами Сводного уланского полка («Однако Бог упас», – сухо замечает он), уходит из сакли за пятнадцать минут до того, как она «взорвана была на воздух». Его боевому крещению, когда он становится свидетелем и участником кровавой стычки с турками, как и въезду на Кавказ, предшествует проезд через «опасное ущелье», а над телами раненых и убитых, как над Ганимедом или Данте, парят «орлы, спутники войск, <���…> с высоты высматривая себе добычу» [VIII: 467].
Другое дело, что орлы – «спутники войск» – не имеют ничего общего ни с орлом, парящим наравне с поэтом в «Кавказе» 325, ни с царственными птицами у Данте и Рембрандта, символизирующими божественную благодать, поднимающую человека к Богу 326. Это стервятники, питающиеся падалью, провозвестники смерти, родственные черным воронам, клюющим тела повешенных в «Альфонс садится на коня…». Как кажется, Пушкин использовал здесь образ из хорошо известного ему сонета П. А. Катенина «Кавказские горы», где Кавказ, вопреки традиции, изображен не как «возвышенное» (по Берку и Канту), а как безобразное и демоническое:
Громада тяжкая высоких гор, покрытых
Мхом, лесом, снегом, льдом и дикой наготой;
Уродливая складь бесплодных камней, смытых
Водою мутною, с вершин их пролитой.
Ряд безобразных стен, изломанных, изрытых,
Необитаемых, ужасных пустотой,
Где слышен изредка лишь крик орлов несытых,
Клюющих падеру оравою густой;
Цепь пресловутая всепетого Кавказа,
Непроходимая, безлюдная страна,
Притон разбойников, поэзии зараза!
Без пользы, без красы, с каких ты пор славна?
Творенье Божье ты иль чертова проказа?
Скажи, проклятая, зачем ты создана? 327
Интервал:
Закладка: