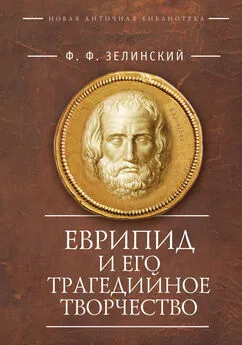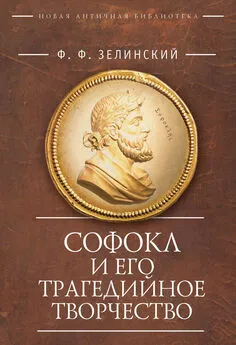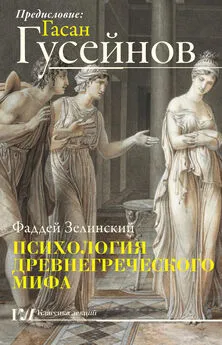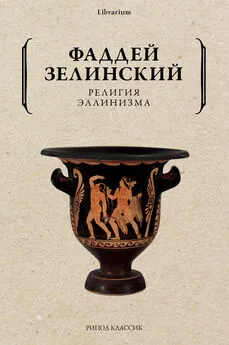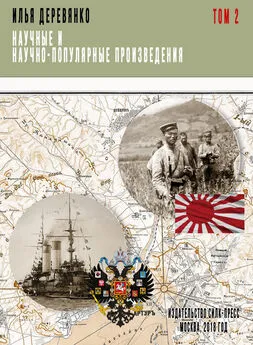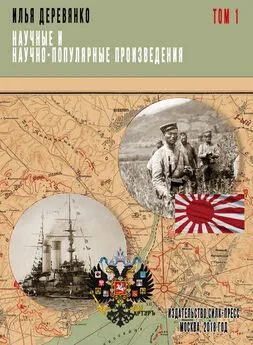Фаддей Зелинский - Еврипид и его трагедийное творчество: научно-популярные статьи, переводы
- Название:Еврипид и его трагедийное творчество: научно-популярные статьи, переводы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-906910-92-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фаддей Зелинский - Еврипид и его трагедийное творчество: научно-популярные статьи, переводы краткое содержание
Книга адресована широкому читателю, интересующемуся античностью.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Еврипид и его трагедийное творчество: научно-популярные статьи, переводы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но, разумеется, к этой манере нужно было привыкнуть; она слишком была своеобразна, слишком отличалась от того, что обыкновенно слышалось как от хороших, так и от посредственных лекторов. Та толпа слушательниц, которая собралась на первые лекции Иннокентия Федоровича, со временем стала редеть, находя, что чтение лектора утомляет ее внимание. Но этот отлив был непродолжителен. Глубокая проникновенность Иннокентия Федоровича, его добросовестное отношение к своей задаче, содержательность его лекций делали свое дело. Мало-помалу аудитория наполнилась вновь. Иннокентий Федорович стал занимать прочное место среди самых любимых профессоров. И если бы кто мог в этом сомневаться при жизни покойного – свидетельство его похорон окончательно бы его в этом убедило. Всем присутствовавшим на них памятны эти «волны» женской молодежи, хлынувшие в этот день – неприветливый зимний день, – в Царское Село и направившиеся от вокзала на квартиру покойного, из квартиры – в гимназическую церковь, из церкви – на далекое кладбище; это были «раички», пришедшие отдать последнюю дань праху своего любимого профессора.
И в то время, как я пишу эту характеристику Иннокентия Федоровича как лектора со слов одной из его самых ревностных слушательниц, – я чувствую сугубую тоску по нем, сугубую злобу против того жестокого абсурда, жертвою которого он пал. Подумать, что этот природный проповедник античности только теперь, только на 52-м году своей жизни, стал на ту колею, для которой он был создан; что эта жизнь в течение без малого тридцати лет трепала его по разного рода административным должностям, претившим всему складу его тонкой и изящной природы; что, едва став на свою естественную колею, он решительно и окончательно был выбит из нее бессмысленным и грубым ударом той безответственной силы, которой подвластен наш мир.
Вкратце упомяну о докладах Иннокентия Федоровича. Здесь художник медлительной речи был вполне во власти своей стихии; предварительная запись, недопустимая в лекции, здесь не только не исключалась, но даже была вполне в порядке вещей. Все достоинства, которыми автор мог наделить свой литературный труд, тщательно подбирая слова и прилаживая их друг к другу, выступали здесь в полном блеске.
Всё же это были достоинства для немногих – для тех, кто были в состоянии оценить музыку речи и оригинальность оборота и отвести должное место тем парадоксам, на которые не скупилась богатая, но прихотливая фантазия автора.
Для большинства эта задача была не по плечу; успеха в большой публике Иннокентий Федорович не имел, даже когда читал на интересные также и для большой публики темы. Никогда не забуду огорчения, которое причинил ему неуспех его лекции о Бальмонте, прочитанной именно перед многими. Особенно возмутил слушателей тот стих поэта-виртуоза, в котором он объявлял, что перед ним все прежние поэты – предтечи. Докладчику нетрудно бы было прикрыть иронией – добродушной или язвительной – наивную похвальбу самозваного мессии русской поэзии. Но у него не хватило духу отречься от любимого поэта даже в этом щекотливом вопросе; он ратовал за него до конца и за него и с ним вместе пострадал.
Тем больше было его удовлетворение, когда он от многих уходил к немногим своим друзьям и товарищам; особенно желанным гостем был он в Обществе классической филологии и педагогики, том самом, где он должен был читать в день своей скоропостижной смерти.
Говоря правду, блестящим лектором Иннокентий Федорович не был. Его дикции недоставало разнообразия в модуляции; его приятный, слегка бархатный голос держался преимущественно в средних регистрах и если не производил впечатления однообразия, то потому только, что содержание читаемого сосредоточивало на себе внимание слушателя. Все же и это содержание страдало иногда от того, что тембр лектора не везде поспевал за извилинами и скачками его подчас шаловливой мысли, и эта последняя постоянно как бы опекалась его всегда корректным и джентльменским голосом.
Особенно памятным осталось у меня одно из посвященных Еврипиду заседаний. Лектор развивал некоторые пункты из области своей излюбленной драматической эстетики. Понадобилось ему сравнение – и вот он стал нас уверять, что мы все, любуясь на упражнения акробата, втайне желаем, чтобы он полетел вниз со своего каната и сломал себе шею. Мы все испуганно переглянулись; никто ведь не сомневался в том, что, случись такое несчастье на деле, – добрейший Иннокентий Федорович был бы им более поражен, чем кто-либо другой. Но те слова были произнесены тем же ровным, приятным голосом, как и все прочее, безо всякой мефистофелевской нотки – и оставалось только благодарить судьбу за то, что их слышали мы, а не большая публика. Я, по крайней мере, был – за автора – этому очень рад.
Кроме докладов, Иннокентий Федорович любил также читать нам свои переводы из Еврипида – либо в том же Обществе, либо у себя дома. Последнее имело свои неудобства – гостям приходилось ехать в Царское Село – но зато доставляло лектору возможность читать свои произведения аудитории, им же подобранной, и в привычной для него обстановке. В этой обстановке – изящной, как и все, что исходило от Иннокентия Федоровича и соприкасалось с ним, – более всего бросались в глаза экзотические цветы на письменном столе, за которым, повернувшись к публике, занимал место лектор, и они удивительно шли друг другу, этот лектор, и его произведение, и эти цветы, поддерживая и усиливая созданную фантазией слушателей иллюзию.
Хотелось по мере сил запечатлеть эти, быть может, маловажные подробности, относящиеся к живому слову Иннокентия Федоровича. Ныне это слово уже замолкло; кто в будущем станет заводить знакомство с покойным, для того он сольется со своими печатными произведениями – и прежде всего с русским переводом того автора, которого он более других знал и любил.
Есть филологи только (по-немецки их называют Nurphilologen), и есть филологи, окрашенные в своем научном естестве еще какой-нибудь другой, научной или художественной предилекцией.
Иннокентий Федорович не относился пренебрежительно к первой категории, но сам он принадлежал ко второй. Будь он филологом только – он стал бы таковым на лингвистической закваске. К этой области относились его первые научные работы; ее же он делал и предметом своих курсов в те довольно давние времена, когда он солидно, но без особенного успеха читал на (Бестужевских) Высших женских курсах. Но занятия лингвистикой взрастили в нем любовь к слову; а любовь к слову сблизила с источниками художественного слова (понимая художественность безотносительно к сознательности) – со старинной русской литературой и – что редко уживается вместе – с поэзией Запада. Особенно близка была ему в этой последней области та поэзия, которая практиковала, если можно так выразиться, культ слова; так-то естественная необходимость, вытекавшая из всей его филологической натуры, заставила Иннокентия Федоровича отдаться модернизму.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: