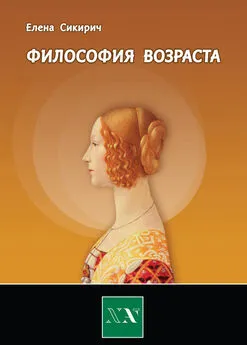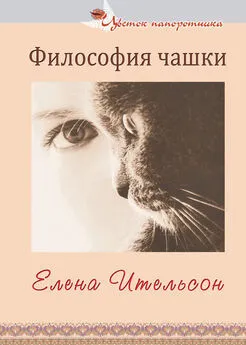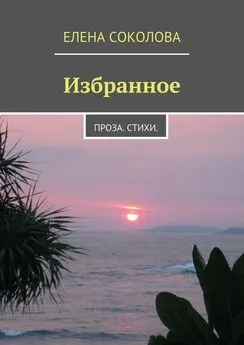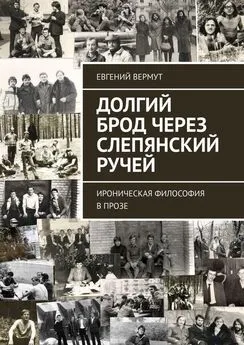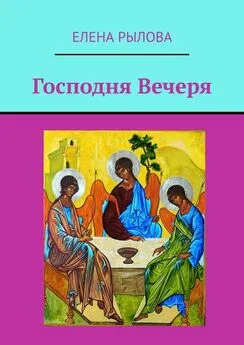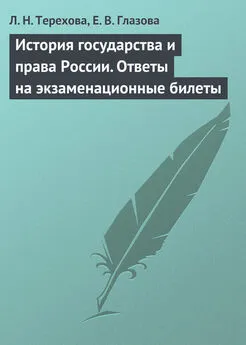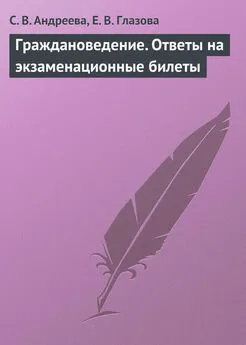Елена Глазова - От философии к прозе. Ранний Пастернак
- Название:От философии к прозе. Ранний Пастернак
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814611
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Глазова - От философии к прозе. Ранний Пастернак краткое содержание
От философии к прозе. Ранний Пастернак - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Еще до Марбурга Пастернак должен был ощущать нестыковки между погружением в неокантианство 40 40 Всего несколькими днями ранее Пастернак еще надеялся, что неокантианство Когена сыграет для него в будущем основополагающую роль. В письме от 5 июня 1912 года он пишет: «Мне надо плюнуть на всяких Лейбницев и математику и философию как предмет вообще – и отдаться исключительно изучению его системы» (VII: 105). Схожий взгляд высказан в письме к родителям от 22 июня 1912 года (VII: 113).
и своим прежним восхищением Лейбницем и «Натурфилософией», интерес к которым в нем пробудил его московский преподаватель Густав Шпет 41 41 Как отмечает Флейшман, Густав Шпет был последователем Лейбница и противником Канта, считая последнего ответственным за возникновение таких направлений современной мысли, как «эмпиризм, субъективизм, релятивизм и пр.». Что касается Платона, Шпет считал Лейбница философом, воспринявшим все потенциально-имплицитное в платонизме, а Канта винил в том, что тот вернул в обиход все негативные подходы к Платону, см.: (Поливанов 1993) и (Lehrjahre I: 25).
. Был Пастернак и прекрасно осведомлен о философских спорах, касавшихся возможной преемственности или отсутствия таковой между умственной деятельностью и жизнью природы. В этом смысле его письма из Марбурга за июнь и июль 1912 года весьма красноречивы: во-первых, они проясняют, что его решение уехать из Марбурга созрело самым буквальным образом между его двумя выступлениями с рефератами на семинарах: первый был зачитан 27 июня на семинаре Гартмана, где Пастернак говорил о Лейбнице (VII: 113), а последний, посвященный этике Канта, встретил на семинаре у Когена 8 июля особо теплый прием (VII: 117), когда почти сразу же, несмотря на успех, решение об отъезде было принято.
Как подчеркивает Флейшман, самые тягостные переживания Пастернака не были напрямую связаны с курсом Когена. Скорее всего, их источником были «отрицательные впечатления» от семинара Николая Гартмана о Лейбнице (Lehrjahre I: 83). Но поскольку Гартман в 1912 году был ярым приверженцем неокантианства и Марбургской школы, раздражение Пастернака свидетельствует не только о резкой антипатии к Гартману, но и о довольно серьезном разочаровании в самом подходе Марбургской школы к философским истокам романтизма. Так, в письме к Александру Штиху, датированном 27 июня, то есть сразу после своего первого выступления, Пастернак ставит под сомнение подход Гартмана и хвалит свое «старое» московское понимание Лейбница, еще раз повторяя, что более всего он сам согласен с прочтением, предложенным именно Гербартом, – оно куда правильнее, чем трактовка Гартмана:
О Лейбнице я прочел. Сложно: проф. не дал мне развить тех мест, где я если не оригинален, то, во всяком случае, стараюсь восстановить тонкое и единственно правильное понимание Лейбница, которое в свое время дал Гербарт (VII: 113).
Хотя остается непонятным, в каких именно местах Пастернак считал себя особенно осведомленным, «Неопубликованные философские конспекты» за 1910 и 1911 годы (когда его интерес к Лейбницу был особенно интенсивным 42 42 О важности Лейбница для Пастернака в 1910–1911 годах см.: (Lehrjahre I: 25–28). Собственные воспоминания Пастернака о его курсовой работе по Лейбницу возникают в контексте поворотной встречи с Самариным в «Café Grec», где «поперек павильона протянулся кусок гегелевской бесконечности», а сам Самарин «соскочил с Лейбница и математической бесконечности на диалектическую» (III: 165). В «Охранной грамоте» Пастернак отмечает, что в XVIII веке Ломоносов учился вместе с Кристианом фон Вольфом, учеником Лейбница.
) проясняют многое. Вслед за Гербартом 43 43 Иоганн Фридрих Гербарт (1776–1841) был немецким философом, чья трактовка Лейбница повлияла на неокантианские представления о психологии и образовании, см.: (Davidson 1906). Во время учебы в Москве Пастернак пользовался учебником «Введение в философию» Г. И. Челпанова, коллеги и друга Шпета.
Пастернак увлекся духовным раскрытием идей, идущим через материальное содержание природы и развивающимся посредством агрегации монад. Соответственно, изучая интерпретацию Лейбница через Гербарта, Пастернак прежде всего интересовался динамической последовательностью, даже прогрессией, духа и души в нашем физическом «организме»:
Л<���ей>бн<���и>ц – монист. Монады духовн<���ые> непротяж<���енные> единицы, которым присуще внутр<���енние> состоян<���ия>: способн<���ость> пр<���е>дст<���а>вл<���ения>. […] Монады – духовн<���ые> атомы. Организм наш = комплекс монад с иерархич<���еским> отношением. Монада души господствует. Мон<���ада> души – прост<���ая> субстанция – неразрушима.
Гербарт: реалии. Одна из реалий душа (Lehrjahre I: 174) 44 44 Разметка в цитатах соответствует той, которая принята у редакторов Lehrjahre, – она показывает сокращения в записях Пастернака.
.
Уже в студенческих «конспектах», говоря о Лейбнице и иллюстрируя прогрессивный континуум проникновения духовной эссенции в физическую материю посредством конгломерации монад, Пастернак создает замечательную картину разноголосого и разнонаправленного взаимодействия существ и сущностей в иерархическом развитии природы. По сути, его образы уже предвещают книжный папоротник в марбургской комнате:
Мир – совокупн<���ость> воль различн<���ой> степени сложности […]. Отс<���юда> природа —самораскрытие духа: внешн<���яя> стор<���она> космич<���еского> мира – материя; внутренн<���яя> – чувств<���а>, влечен<���ия>, духовн<���ое> тв<���орче>ство. […]
Природа = дух сознающий, достигающ<���ий> самосознания в человеке. Различие сложности межд<���у> отд<���ельными> волев<���ыми> единицами. […] Цель жизни – реализация духовности в творчестве, распростран<���ение> духовности, превращение природы в субстрат для достиж<���ения> духовн<���ых> целей (Там же: 185–186).
Сходство между содержанием этих московских заметок (с их изображением мира как «совокупн<���ости> воль различн<���ой> степени сложности») и образом комнаты в Марбурге перевоплощается в «Охранной грамоте» в еще один образ – во вневременной непрекращающийся разговор, в течение которого многочисленные авторы на открытых листьях-листах уже беседуют как друг с другом, так и с учеником-неофитом.
По мнению ученых, которые анализировали отношение Канта к Лейбницу, Кант в своей «Критике чистого разума» высказывает особо сильное неприятие лейбницевского организованного континуума, его «подчеркнутого пристрастия к понятию бесконечности или бесконечно малых систем, организованных в функционально дифференцированные группы»; более того, Кант начисто отвергал как «невозможное» представление Лейбница о том, что процесс этой организации может продолжаться до бесконечности (Grene, Depew 2004, 95). Можно ли сделать из вышеизложенного вывод, что Пастернак решил согласиться с лейбницевским пониманием континуума между природой и разумом и в этой связи отошел от неокантианства? 45 45 Пастернак не мог не знать, что представления Лейбница об объединении и взаимодействии человеческих побуждений через постижимые разумом силы природы или материальные монады не встретили теплого приема ни у Канта, ни у его последователей.
И возможно ли, что обида на Гартмана была оборотной стороной реакции Пастернака на неприятие Марбургом лейбницевской модели природы как «духа сознающего, достигающего самосознания в человеке» – модели, которой придавали такую важность Шеллинг, Гете и другие романтики.
Интервал:
Закладка: