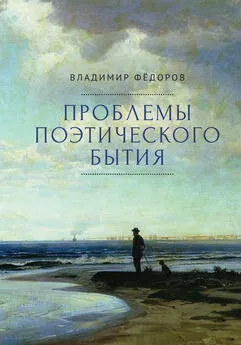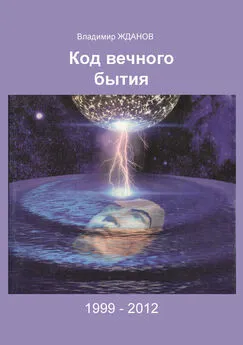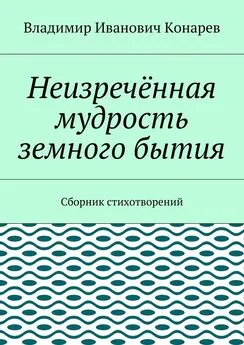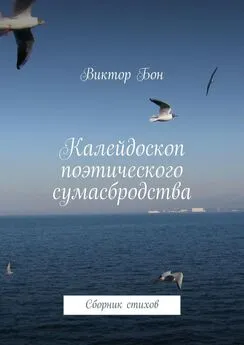Владимир Федоров - Проблемы поэтического бытия. Сборник работ по фундаментальной проблематике современной филологии
- Название:Проблемы поэтического бытия. Сборник работ по фундаментальной проблематике современной филологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-231-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Федоров - Проблемы поэтического бытия. Сборник работ по фундаментальной проблематике современной филологии краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Проблемы поэтического бытия. Сборник работ по фундаментальной проблематике современной филологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, двуплановый диалог есть своего рода «мирообразующая» форма: он возникает в результате «самоотрицания» мира и является способом разрешения внутреннего конфликта мира на «человеческом уровне». Двуплановый диалог вбирает в сферу своего действия весь наличный мир. Как диалог миров он становится «большим диалогом».
Глава 2
Большой диалог
Двуплановый диалог тесно связан с большим диалогом, так как их порождает, собственно, одна причина: диалектическое становление мира в романе Л. Толстого.
Понятие «большого диалога» ввел в литературоведение М. Бахтин в книге «Проблемы поэтики Достоевского». В концепции исследователя этому понятию отводится весьма важное место.
Возникновение большого диалога, по мысли М. Бахтина, связано с тем, что «герой Достоевского не объектный образ, а полновесное слово, чистый голос» [85] М.М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. С. 90.
.
«Поэтому и слово автора о герое – слово о слове. Оно ориентировано на героя как на слово, и потому диалогически обращено к нему» [86] Там же, с. 108.
, конструируя «большой диалог».
Диалогические отношения между автором и героем являются непременным условием возникновения большого диалога. У Л. Толстого, например, «невозможны диалогические отношения автора к своим героям, и потому нет и «большого диалога», в котором на равных правах участвовали бы герои и автор» [87] Там же, с. 122.
.
Большой диалог – конструктивное понятие не только для поэтики, но и для теории литературы в целом, поэтому весьма важно разобраться в причинах его возникновения.
М. Бахтин прав в том, что большой диалог может возникнуть лишь при условии ориентации субъекта речи на героя как на слово. Но этот тезис в дальнейшем нуждается в двух поправках. Во-первых, исследователь возникновение такого специфического объекта изображения как «слово героя о себе самом и своем мире» связывает исключительно с тем обстоятельством, что «художественной доминантой в построении образа» у Достоевского становится «самосознание» героя [88] Там же, с. 97.
, а… предметом… авторского видения и изображения оказывается самая функция этого самосознания» [89] Там же, с. 79.
.
В «Анне Карениной» герой также становится воплощенным словом, однако это связано ближайшим образом не с функцией самосознания, а с функцией самоизображения.
Во-вторых, это слово – как предмет изображения – предстоит непосредственно не автору, а повествователю, т. е. своеобразному персонажу произведения, но отнюдь не его создателю.
М. Бахтин не дифференцирует понятия «автор» и «повествователь». На это обратил в свое время внимание Б. Корман. «В основе парадоксального вывода, к которому пришел М.М. Бахтин, – пишет он, – лежало, на наш взгляд, смешение автора как носителя концепции, выражением которой является всё произведение, с одной из форм авторского сознания – повествователем, рассказчиком, рассказчиком-героем, хроникером и т. п. Она действительно равноправна с героями, её идеологическая и речевая зона – лишь одна из многих. И она отнюдь не господствует над героями, а сама, наряду с ними, является объектом воспроизведения и предметом анализа. Автор же как носитель концепции всего произведения в романах Достоевского весьма активен» [90] Б.О. Корман. Итоги и перспективы изучения проблемы автора // Страницы истории русской литературы. К 80-летию члена-корреспондента АН СССР Н. Ф. Бельчикова. М.: Наука, 1971. С. 200.
.
Венгерский исследователь творчества Ф. Достоевского Д. Кирай также утверждает, что «можно самосознание героя, нравственного, интеллектуального облика его, как и судьба героя не являются окончательными точками познания в эпическом произведении, а лишь познанием этой точки через эпическую структуру» [91] Д. Кирай. Достоевский и некоторые вопросы эстетики романа // Достоевский. Материалы и исследования. Вып. I. Под ред. Г.М. Фридлендера. Л.: Наука, 1974. С. 95.
.
Оба исследователя, однако, не оспаривают изначальную установку М. Бахтина на автора как на познающего по преимуществу субъект, отрицая только его утверждение, что роман Достоевского лишен иерархически наивысшей и безусловно истинной точки зрения. Между тем здесь дело не в том или другом конкретном случае. Согласимся, что у Достоевского, как и у Л. Толстого, автор неравноправен идеологически с героем, но недопущение мысли о самой возможности встречи автора с героем на почве идеологии не исключает возможности также равноправия в принципе.
«Непосредственно значащее» слово героя, однако, не может принципиально быть направлено на ту своеобразную действительность, которая является не предметом изображения, а творением автора. Изображает повествователь объективно предлежащую ему действительность (в том числе и такую своеобразную, как слово, в романах Л. Толстого и Ф. Достоевского), творимую автором. Непосредственно противостать своему творцу герой не может без того, чтобы не покинуть одновременно саму эту действительность, а стало быть, одновременно и сферу художественного образа, так как их границы совпадают.
Герой не может быть непосредственным объектом авторского слова потому, что как такового его в романе вообще нет.
М. Бахтин отрицает полифоничность драмы отчасти потому, что в драме «монологическая оправа не находит… непосредственного словесного выражения, но именно в драме она особенно монолитна» [92] М.М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. С. 27.
. В драме большого диалога, в понимании М. Бахтина, не может быть потому, что в ней нет композиционно оформленного слова автора. Но от авторского слова в драме слово автора в романе в этом отношении ничем не отличается. Отличие драмы от эпического произведения наиболее наглядно прослеживается на среднем уровне (исходя из трехуровневого строения образа – герой, повествователь, автор): в драме нет как будто слова повествователя, так как в ней отсутствует сама функция повествования. Уровню повествователя в романе соответствует уровень исполнения в драме, а повествователю – исполнитель (один или сто – безразлично). Специфика драмы состоит в том, что у исполнителя нет своей речи, частной партии в хоре голосов, он воплощается в герое целиком, изображает его собой , т. е. драматически. Благодаря этому фигура исполнителя остается незамеченной; между тем, читая драму, мы воспринимаем ближайшим образом слово исполнителя, то есть изображенную, а не непосредственно продуцируемую героем речь. Артист театра – это проекция вовне внутреннего исполнителя, спектакль извлекается из драмы, а не делается на её основе.
Итак, сравнение драматического и эпического образа показывает, что в отношении «слова автора» между ними нет различия; авторская речь не находит композиционного оформления ни в первом, ни во втором.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: