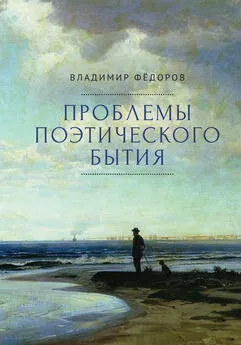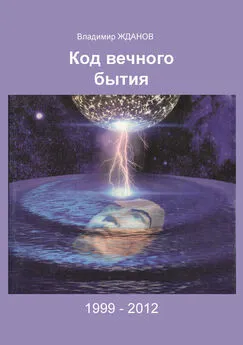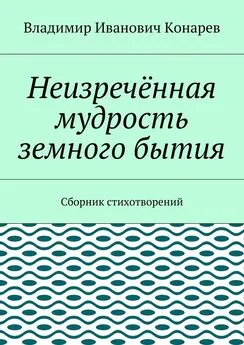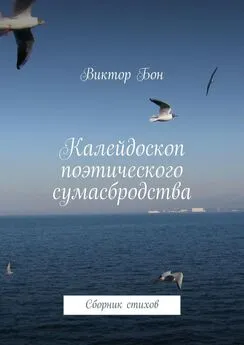Владимир Федоров - Проблемы поэтического бытия. Сборник работ по фундаментальной проблематике современной филологии
- Название:Проблемы поэтического бытия. Сборник работ по фундаментальной проблематике современной филологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-231-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Федоров - Проблемы поэтического бытия. Сборник работ по фундаментальной проблематике современной филологии краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Проблемы поэтического бытия. Сборник работ по фундаментальной проблематике современной филологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
М.М. Бахтин совершенно прав, когда говорит, что «ни в одном из романов Достоевского нет диалектического становления единого духа» [45] М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. С. 44.
. Речь идет, однако, не о диалектике духа, но о диалектике объекта мыслящего сознания – становящемся мире, который вовсе не исчерпывается «духом», хотя оба художника, особенно Л. Толстой, изображают диалектику становления мира в форме «диалектики души». В «Братьях Карамазовых» судьба мира также зависит от последнего решения Ивана Карамазова, как в «Анне Карениной» она зависит от решения героини.
В связи с этим понятно, что о сходстве их как художников можно говорить лишь в самом широком и общем смысле. Двуплановый диалог, разрабатываемый этими писателями, свидетельствует именно о таком сходстве. Ближайшее рассмотрение структуры двупланового диалога обнаруживает существенное, – в пределах указанного сходства – расхождение их как художников.
Выводы сравнительного анализа двупланового диалога в романах Л. Толстого и Ф. Достоевского позволят, в частности, более предметно решать проблему жанровых особенностей романов обоих писателей. Решение этого вопроса, наконец, даст возможность сделать общий вывод о степени сходства и различия Л. Толстого и Ф. Достоевского как писателей и взаимоориентировать их в историко-литературном процессе.
Общая характеристика двупланового диалога
В одноплановом диалоге диалогическое и внедиалогическое противостоит резко и определенно. В нем сталкиваются субъективные точки зрения, мнения о мире собеседника, (безотносительно к широте самой точки зрения: входит ли в её кругозор все мироздание или только его частный момент – не имеет значения). Вне диалога остается все объективное : а) реальный мир, пребывающий вне диалога; б) собеседники. Диалогически сталкиваются только их мнения о мире, сами они вне диалога, поскольку укоренены в объективном мире, принадлежат ему; в) высказывания собеседников. В диалог вовлекается только субъективный смысл, содержание высказываний, но объективное в слове – также вне диалога.
Последний пункт нуждается в пояснении. Реплика – понятие не абсолютное, а относительное. Высказывание воплощает то или иное мнение субъекта речи о мире. Безотносительно к его внутренней истинности, оно (это мнение) прежде всего существует как факт. И фактическая реальность этого (может быть, вполне несостоятельного с точки зрения истины) мнения не подвержена сомнению. Она бесспорна. В диалоге в связи с этим следует различать внешнюю и внутреннюю стороны. Во внутренней, содержательной плоскости высказывания, безразлично, враждебны они или солидарны, во всяком случае они соотносительны . Во внешней оба являются равноправными фактами объективной действительности, нейтрально существующими.
Репликой является только такое высказывание, смысловое содержание которого взято в отношении к смысловому содержанию другого высказывания (не обязательно наличному: существует множество диалогов, состоящих из одной реплики). Реплика может быть истинной или ложной; высказывание представляет собой только голую реальность, нейтральную по отношению к вопросу об истинности. Мнение, то есть субъективное содержание высказывания, как момент этого высказывания , – также вне вопроса об истинности. Слово удостоверяет прежде всего, так сказать, физическое, материальное бытие этого мнения. С точки зрения истины, ложное мнение не имеет права на существование, но это мнение существует на эмпирическом уровне, в материальной оболочке звука (внешней формы слова), которая препятствует его отрицанию как материального предмета и тем самым сохраняет его идеальное содержание.
В одноплановом диалоге противоположность между репликой и высказыванием не снимается. Он не снимает актуальности внешнего бытия мнения собеседника в материи слова, даже будучи опровергнутым изнутри, оно продолжает существовать как фактическая реальность.
Следует подчеркнуть, что объективная реальность (включая сюда собеседников с их высказываниями) не находится «по ту сторону» диалога. Она, безусловно, входит в диалог и образует его материальную основу. Речь идет только о том, что эта основа – вне сферы действия диалога. Диалог – специфическая форма взаимодействия персонажей романа, которая осуществляет, реализует отношения действующих лиц, но на саму форму действие диалогического принципа не распространяется. Двуплановый диалог вовлекает в сферу действия свою форму. Конкретно, он диалогизирует первый план (который, разумеется, сам определяется как «первый план» лишь по отношению ко второму, т. е. только в двуплановом диалоге) вместе с его компонентами: объективной реальностью, собеседниками и высказываниями.
Кратко особенность двупланового диалога по сравнению с одноплановым можно сформулировать так: в одноплановом диалоге к собеседнику обращено мнение говорящего субъекта о внеположном диалогу мире, выраженное в слове-реплике; в двуплановом диалоге к собеседнику диалогически обращен самый субъект речи однопланового диалога или персонаж-посредник. Этот персонаж-посредник – лицо изображенное. Принцип его изображения – драматический. Говорящее лицо изображает посредника самим собой, воспроизводя его всем своим составом.
Итак, наиболее наглядно принцип действия двупланового диалога проявляется в том, что он как бы порождает внутри себя новый компонент, отсутствующий в одноплановом диалоге, – персонажа-посредника, который действительно исполняет функцию посредничества между собеседниками.
Как мы уже упоминали, В. Виноградов также указывал на двуплановость диалогов Л. Толстого, но в другом аспекте. Под «двупланностью» он понимает известное противоречие между словесными репликами и сопровождающей их мимикой героев. «Звучат голоса героев. Но параллельно с этой речью, сплетаясь с ней, её дополняя, разъясняя или разоблачая, вступая с ней в противоречие, иногда её вытесняя, развивается другой диалог – зрительный: говорят глаза, губы, рот, лицо, говорят их сменяющиеся выражения. И всю сложную семантику их показаний, весь этот многозначительный мимический разговор Толстой передает тоже в образах и формах устного диалога, который наслаивается на произносимый, звучащий диалог» [46] В.В. Виноградов. О языке Толстого (50—60-е годы) //Литературное наследство. Т. 35–36: Л.Н. Толстой. I. С. 206.
.
Мнение о том, что для героев Толстого важен не столько диалог слов, сколько диалог жестов и мимики, утвердилось еще со времени появления книги Д. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», в которой он, исходя из своей концепции «диалектического» противопоставления Л. Толстого как «ясновидца плоти» и Достоевского как «ясновидца духа», приходит, в частности, к выводу, что «у Л. Толстого мы слышим, потому что видим; у Достоевского мы видим, потому что слышим» [47] Д.С. Мережковский. Л. Толстой и Достоевский // Полн. собр. соч. Т.X. М., 1914. С. 97.
. Точка зрения В. Виноградова более точно вскрывает специфику толстовского диалога, он говорит о противоречии между словом и жестом героя, т. е. о своеобразном «микродиалоге» между ними, хотя и не употребляет этого термина. Л. Гинзбург в монографии «О психологической прозе» развивает этот тезис В. Виноградова: «Для Толстого реплика, – пишет она, – это еще сырой материал; только объясняющее авторское сопровождение оформляет её смысл, переключая реплику в другой, скрытый, контекст» [48] Л.Я. Гинзбург. О психологической прозе. Л.: Советский писатель, 1971. С. 374.
.
Интервал:
Закладка: