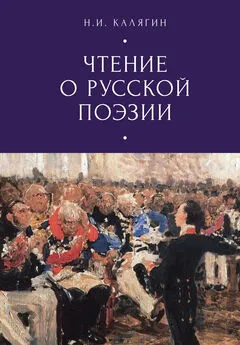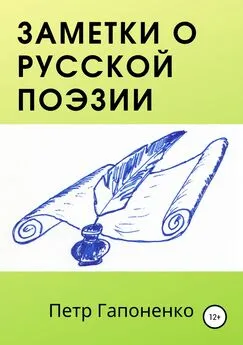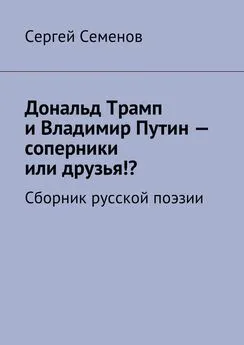Николай Калягин - Чтения о русской поэзии
- Название:Чтения о русской поэзии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-204-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Калягин - Чтения о русской поэзии краткое содержание
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На прошлом чтении мы говорили, что поэт – это обособление, аномалия, что это в каком-то смысле чудовище, способное действительно не щадить для звуков жизни, даже и чужой (вспомните хотя бы стихи Тютчева « Не верь, не верь поэту, дева. ..»). Вот Львов – это как раз аномалия аномалии, то есть именно то, что аномалию исправляет. Он мог бы стать ведущим поэтом в своем поколении, имей он нормальное честолюбие; вместо этого Львов отыскивает повсюду других несчастных, уязвленных красотой, измученных своим даром, и снабжает их необходимыми сведениями, участием, любовью – из личных запасов.
Достижения Львова в поэзии скромны, но не вовсе незаметны. Считается, что он предвосхитил поэзию русского сентиментализма. Дал русскому читателю полного Анакреона, переведенного размером подлинника: этот труд лег в основание анакреонтики Державина и Капниста. Одним из первых у нас перевел Львов и шесть вис легендарного викинга Харальда Сигурдарсона, добивавшегося много лет любви нашей Елизаветы Ярославны, совершившего на суше и на море различные подвиги. Впоследствии А. К. Толстой посвятил этому норвежскому титану две прекрасные баллады; львовская же «Песнь Гаральда Храброго» является переложением не скандинавского текста «Вис Радости», а всего лишь французской их версии – да и скальдическая поэзия в принципе непереводима, – но важно то, что для своего перевода Львов использовал ритмику народной песни «Не звезда блестит далече во чистом поле». А богатырская повесть «Добрыня», начатая Львовым, стала первым в нашей поэзии (и весьма искусным) подражанием былинному эпосу. И именно Львову принадлежала идея издания знаменитого «Собрания народных русских песен с их голосами», ставшего событием в истории русской литературы и музыкальной культуры.
Таким образом, в середине пышного царствования Екатерины с его классическими и ложноклассическими литературными идеалами чуткий Львов возобновляет поиски национального стихотворного размера, вплотную подходит к мысли о необходимости народности для литературы. Это не «народность» некоторых од и песен Н. П. Николева, писавшего с одинаковой легкостью по-французски, по-итальянски и по-солдатски («Гудошная песнь на случай взятия Очакова»), – это та народность, требование которой, идущее вразрез с генеральной линией века Просвещения, станет программным у немецких романтиков.
Подытоживая сказанное о Львове, заметим: он многое делал первым, но он мало любил своих литературных чад, мало ими занимался и не столько стремился сам подняться на вершину славы, сколько расчищал дорогу вслед идущим. Чтобы проиллюстрировать отношение Львова к своему творческому наследию, приведу отрывок из письма, в котором Николай Александрович сообщает Капнисту о том, что некий общий знакомый «потерял не только все мои сочинения, сколько их ни было, но и записки мои, до художеств касающиеся, и все мои журналы. Нет у меня теперь в библиотеке ни строчки, а в голове ни одной мысли. Я чаю, ты бы за это рассердился. И я бы рассердился, да стал глуп очень, так все равно, прости». Тут вы все видите сами. Разграблены архив и библиотека. Львов сознает, что ненормально не сердиться из-за этого, и оправдывается болезнью и вызванным ею «поглупением». Просит на всякий случай прощения… Ясно, что автором, человеком, пестующим свою самость, Львов быть не может. Его природа, пожалуй, выше авторской.
Слово, которое мне сегодня особенно часто приходится употреблять, есть слово «перевод». Все поэты ХVIII столетия что-нибудь да переводят; даже Василий Майков, не зная иностранных языков, переводит с церковно-славянского псалмы. Это понятно. Русская поэзия, хоть и родилась у Ломоносова «красавицей», из детского возраста еще не вышла и должна многое перенимать от старших сестер.
И здесь выплывает на поверхность одна тема – тема деликатного свойства.
В учебной литературе до сих пор чрезвычайно высоко оценивается деятельность Новикова. А судьба Новикова служит обыкновенно наглядным пособием при публичной защите тезиса: «Самодержавие – враг просвещения». В самом деле, с одной стороны мы видим развратную императрицу, которая закрепощает вольных украинских хлебопашцев и раздает награбленные деньги любовникам, с другой – благородного просветителя, который наводняет Россию книгами, заслуживает тем самым неприязнь развратной императрицы и попадает в крепость… Живая картина, контраст разительный.
Действительность, как водится, сложнее.
Культурное строительство во все времена стоило очень дорого, а успехи истинного просвещения в России ХVIII столетия очевидны. Укажем на одну только деталь: античная классика была у нас за эти сто лет переведена и издана практически полностью.
Инициатива в деле усвоения общемировой культуры исходила от правительства, шла сверху; Новиков был один из частных предпринимателей, откликнувшихся снизу на эту инициативу. Тайные цели Новикова, наверное, отличались от благородных и ясных целей правительства (он был видный масон, мартинист), но мы с вами, слава Богу, в масонские тайны не посвящены и говорить о них поэтому не будем. Известно, что Новиков в двадцать раз увеличил оборот книжной торговли в России (об этом можно прочесть в «Обозрении русской словесности 1829 года» И. В. Киреевского) и приохотил нашу провинцию к беспробудному, запойному чтению, подготовив тем самым фундамент для устройства в будущем Ордена российской интеллигенции. Этой заслуги никто у него не отнимает. Но ведь не Новиков платил Баркову жалованье за его занятия Горацием, не Новиков материально поддерживал семнадцатилетний труд Василия Петрова над переводом «Энеиды»… Скажем наконец грубо и прямо: царское правительство тратило огромные деньги на просвещение, на культурное строительство, и тратило безвозвратно – Новиков на просвещении зарабатывал. И заработал так много денег, так широко развернул с их помощью свое «дело», что мог уже формировать общественное мнение, направляя его на цели, весьма отличные от целей правительства. Впрочем, пострадал он не за это, а за свои связи с заграничными масонами.
Попробуем теперь воскресить метод сравнительных жизнеописаний, излюбленный Плутархом, и в параллель к судьбе Новикова рассмотрим другую писательскую судьбу.
Ермил Иванович Костров признается крупнейшим поэтом-переводчиком ХVIII столетия. Гнедич в свое время начал переводить «Илиаду» александрийским стихом с той песни, на которой остановился Костров, не рискуя (или просто не находя нужным) вступать с ним в состязание. Суворов во всех походах возил с собою костровский перевод песен Оссиана, называл Кострова любимым своим поэтом и неизменно ему покровительствовал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: