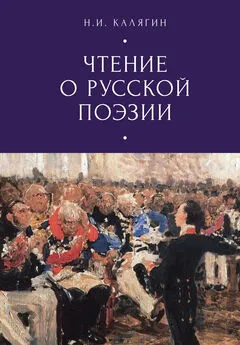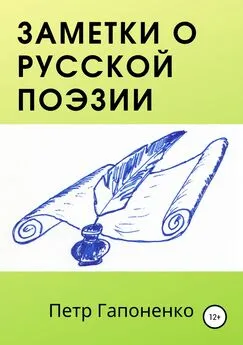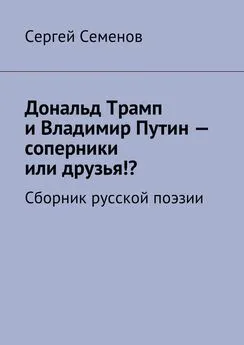Николай Калягин - Чтения о русской поэзии
- Название:Чтения о русской поэзии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-204-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Калягин - Чтения о русской поэзии краткое содержание
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А в ноябре 1778 года происходит совсем уже незаметное событие: купеческий сын Прохор Мошнин поступает послушником в Саровскую пустынь.
Гроза двенадцатого года еще дремлет, но уже и в самой России при взгляде со стороны многое начинает двоиться. Центром сентименталистской эпохи является трагическая личность императора Павла, в котором чистота помыслов и редкое душевное благородство омрачались больше и больше грозной психической болезнью; в центре литературы оказывается двоящаяся фигура Карамзина.
Молодой Карамзин – республиканец, западник, масон. И к этим радикальным достижениям приводит его симпатия к просветительскому идеалу свободной, гармонически развитой личности. Но уже в 1811 году Карамзин, сохраняя все идеалы юности, оказывается в охранителях, в консерваторах, выступает противником либеральных реформ, задуманных императором Александром.
Здесь мы наблюдаем непосредственно картину происходящего исторического перелома: часовой армии свободы мужественно остается на посту, а мир поворачивается – и переносит его вместе с охраняемым постом во вражеский стан. Восемь лет непрерывных триумфов наполеоновской военно-административной машины, восемь лет углубленных занятий русской историей привели Карамзина к неожиданному выводу: наилучшим гарантом гражданских прав и свобод является в России самодержавный строй. (Все-таки права человека остаются для Карамзина на первом месте.)
Крушение классицизма – это крушение идеала героической личности, жертвующей своими склонностями в пользу долга. Ведь если государство – Левиафан, если государь (незлобивый и добропорядочный Людовик ХVI, к примеру) – тиран, то жертвовать становится нечему и незачем.
Классицизм пал жертвой просветительской идеологии, либерально-атеистическое мирочувствие разъело его конструкции. Но непригодность для жизни просветительских идеалов обнаруживается достаточно быстро, и сентиментализм – только первый кризис воцарившейся идеологии, ее детская болезнь.
В чем же сущность сентиментализма?
Человек по-прежнему стремится к гражданской свободе, но теперь он стремится к ней не потому, что это разумно и целесообразно (какая уж целесообразность в «штурме Бастилии», где, как на грех, не оказалось 14 июля ни одного арестанта, в обожествленном разуме м-ль Обри, в гражданской войне и массовом терроре), а просто отдельная личность, развиваясь, приобретает настолько уже богатый внутренний мир, что становится невозможным и неприличным держать ее в оковах. А критерий развитости личности, счастливо обнаруженный незадолго до революции, – чувствительность.
Человек рыдает над сдохшим ослом (у Стерна) – значит, человек тонко чувствует, внутренний мир его богат.
И вот эта слезинка, капнувшая на околевшую скотину, смывает с человека путы первородного греха, рабский образ с него смывает, и миру является новая тварь: Человек Чувствительный.
Когда классицист Державин напомнил современникам, упивавшимся сентименталистскими стихами и прозой, о том, что Суворов, « скиптры давая, звался рабом », то в этом, помимо перечисления известных фактов, заключался еще и упрек деятелю новой формации, который, не имея еще никаких заслуг, да что там заслуг – из пеленок уже выскакивал Человеком с большой буквы: « Не скот, не дерево, не раб, но человек! »
Упрек Державина, однако, не вызвал переполоха. Его просто не заметили.
Потому что бывают времена, когда все простое, здоровое, ясное перестает восприниматься таким, каково оно есть, и начинает томить – прискучивает. Когда хочется остренького. «Горя не видел настоящего», – говорят в народе про человека, захваченного такими настроениями. И действительно, эпоха, в которую подобные настроения становятся преобладающими, оканчивается, как правило, катастрофой.
Бестактно было со стороны Державина напоминать о том, что Суворов «спал на соломе». Суворов ведь и о чистоте солдатского белья заботился (сам проверял), и требовал в приказах, «чтоб за каждым батальоном вырыто было по три ямы в назначенный размер, переменять оные через три дня…» Какое значение могла иметь вся эта казенщина и обыденщина в дни Карамзина, когда открылось, что не мужчинам, а женщинам назначено вести мир к добру и совершенству. Да, женщинам, потому что их натура утонченнее и непосредственнее мужской. А истинная жизнь – жизнь сердца.
Нам трудно понять сегодня, что в этом такого электризующего: смерть осла, жизнь сердца, мир, который нужно куда-то вести… И живи мы в эпоху Карамзина, мы, может быть, точно так же не понимали бы этого – но тогда мы постыдились бы в этом признаться.
Тут мы сталкиваемся – и в России это впервые проявляется с такой силой, – сталкиваемся с явлением моды. С одной из наихудших ее разновидностей – с модой интеллектуальной.
Молодой Карамзин был современником Ксении Петербургской, жил два года в одном городе с нею и, разумеется, не подозревал о ее существовании. Зато он знал (в числе немногих избранников), что в дальних странах существуют дивные мужи – украшение человечества: Виланд, Лафатер, Тальма… Собственно говоря, для этого он и отправился в свое знаменитое путешествие – чтоб рассказать Виланду и Лафатеру о том, что в России, преображенной гением Лефорта, знают и почитают их имена.
Суворов тоже путешествовал на Запад (во главе вверенных ему полков) и, владея пятью иностранными языками, подолгу общался с эрцгерцогом Карлом, с принцем Конде, с последним польским королем Станиславом Августом, с другими выдающимися представителями западного мира – на их территории. Преимущество Карамзина перед Суворовым заключалось не только в том, что он – писатель и журналист – мог поделиться своим опытом с читающей публикой, но и в том, что его опыт общения с европейскими знаменитостями был читающей публике по плечу.
Карамзин-журналист продолжил дело, начатое Новиковым, хотя программы их журналов на первый взгляд не имеют ничего общего. Моралист Новиков обличал придворные обычаи с позиций внеконфессиональной масонской «духовности»: модный жаргон, элегантные причуды дворянской молодежи отвергались им на тех же основаниях, на каких отвергались привилегии (а заодно и заслуги перед отечеством) отцов и дедов этих молодых людей. Гуманист Карамзин старался светскость, «людскость» распространить как можно шире, сделать придворные обычаи, придворную культуру достоянием средних слоев общества.
Новиков связан генетически со свирепыми республиканцами Якобинского клуба, с Катонами и Брутами 1793 года, с героями нашего 14 декабря. Карамзин выступает провозвестником той «буржуазной фальсификации барства» (К. Леонтьев), которая станет основным стилем западноевропейской жизни после 1848 года. Новиков и молодой Карамзин находятся в одном лагере – в лагере либерально-атеистического прогресса, просто их деятельность принадлежит разным стадиям либерального движения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: