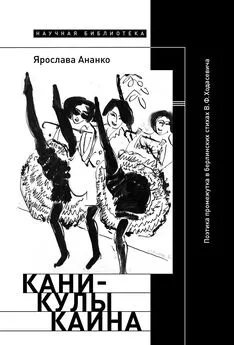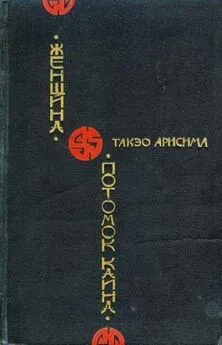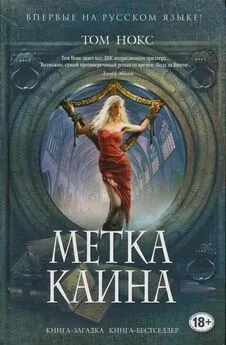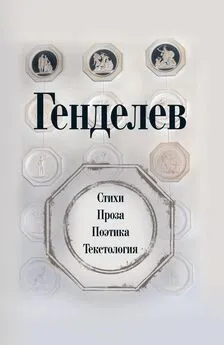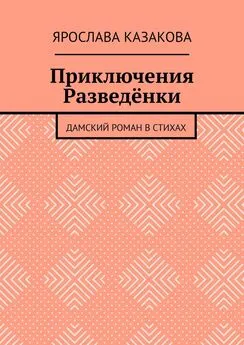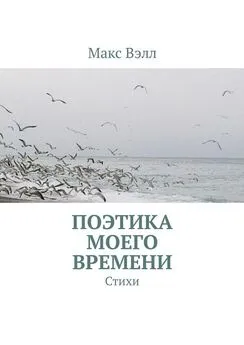Ярослава Ананко - Каникулы Каина: Поэтика промежутка в берлинских стихах В.Ф. Ходасевича
- Название:Каникулы Каина: Поэтика промежутка в берлинских стихах В.Ф. Ходасевича
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444814215
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ярослава Ананко - Каникулы Каина: Поэтика промежутка в берлинских стихах В.Ф. Ходасевича краткое содержание
Каникулы Каина: Поэтика промежутка в берлинских стихах В.Ф. Ходасевича - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Проблема в том, что эта апострофная эмоция перерастает у Есенина во «внесловесный литературный факт» – литературную (стиховую) личность, и стихи превращаются в приватные поэтические послания к читателю от литературной личности 55 55 Тынянов 1977: 171.
. Перманентная спекуляция на плоской эмоциональной доверительности и «почти назойливой непосредственности» приводит к тому, что литературная личность «выпадает из стихов», в результате чего стих обедняется 56 56 Там же.
. Есенинская стиховая эмоция работает на одном приеме – прямом или скрытом, выразительном обращении к читателю через «внесловесный литературный факт». Без этого личного обращения стихи Есенина оказываются «стихами вообще» и «перестают быть стихами в частности» 57 57 Там же: 171–172.
. Вердикт Тынянова суров: если разговор о Есенине Тынянов начинает с того, что тот проверяет собственный голос «на резонансе, на эхо» 58 58 Там же: 170.
, то в конце есенинского пассажа Тынянов фиксирует, что без литературной личности есенинская интонация «лжет», в ней «нет „обращения“ ни к кому, а есть застывшая стиховая интонация вообще», «резонанс обманул Есенина», его стихи – «стихи для легкого чтения, но они в большой мере перестают быть стихами» 59 59 Там же: 172.
. Вновь «застывшесть», «готовость» оказывается смертным грехом промежутка.
Оба «отхода» – Есенина и Ходасевича – сначала сопоставляются, а потом и вовсе приравниваются. Ходасевичский «отход на пласт литературной культуры», по Тынянову, тоже предполагает грубую работу с образом аффилированного читателя, только в случае Ходасевича речь идет об удовлетворении не эмпатических, а литературно-культурных ожиданий реципиента. Ходасевич потакает традиционным, почерпнутым из трафаретного опыта чтения классики читательским предвкушениям и ожиданиям того, как должны выглядеть стихи, «читательскому представлению о стиховой культуре» 60 60 Тынянов 1977: 172.
. Стиховая культура, по Тынянову, предстает набором «готовых вещей», герметичных и статичных, застывших и сконденсированных тотальностей («сгустков»), хотя в свое время природа их была глубоко динамична:
У нас одна из величайших стиховых культур; она была движением, но по оптическим законам истории она оборачивается к нам прежде всего своими вещами. Вокруг стихового слова в пушкинскую эпоху шла такая же борьба, что и в наши дни; и стих этой эпохи был сильным рычагом для нее. На нас этот стих падает как сгусток, как готовая вещь, и нужна работа археологов, чтобы в сгустке обнаружить когда-то бывшее движение. <���…> Самый простой подход – это подход к вещи. Она замкнута в себе и может служить превосходной рамкой (если вырезать середину). / В стих, «завещанный веками», плохо укладываются сегодняшние смыслы 61 61 Там же.
.
В несколько «шкловской» формульной стилистике Тынянов констатирует расхожий («самый простой») и практичный «подход к вещи» – к канонизированному стиху XIX века как к замкнутому единству. Согласно косвенному упреку Тынянова, Ходасевич игнорирует или упускает из виду внутреннюю динамику этого стиха (перефразируя Тынянова, «вырезает середину») и берет для своей поэзии только внешнюю, стабильную оболочку («рамку»), столь любимую и узнаваемую читателем. Подобно тому как Есенин заимствует из романтизма и символизма готовую стиховую личность и предельно схематизирует и банализирует ее, подгоняя под нее стиховую эмоцию, так и Ходасевич перенимает из XIX века готовые «стиховые формулы» и «сгустки», пытаясь в эту статическую рамку поместить свой стих.
Само появление фигуры «рамки» как формы из уст формалиста Тынянова звучит негласным приговором: Ходасевич, не зная или игнорируя постулаты формализма, мыслит художественный текст дуализмом формы и содержания. Эта скрытая инвектива Тынянова отчасти проявляется в колком замечании, что «в стих, „завещанный веками“, плохо укладываются сегодняшние смыслы» 62 62 Там же.
. Ироничность этого пассажа состоит, с одной стороны, в том, что Тынянов здесь опять прибегает к перефразированной дихотомии формы (стиха, в который можно что-то уложить) и содержания («сегодняшние смыслы»), – и эту поляризацию он пародически вменяет Ходасевичу. С другой стороны, Тынянов артикулирует дименсиональное несоответствие «рамки» и укладываемых в нее смыслов, обращаясь к интертексту из самого Ходасевича. Тыняновская фраза «стих, „завещанный веками“» отсылает к формуле «язык, завещанный веками» из стихотворения «Не матерью, но тульскою крестьянкой…» 63 63 Ходасевич 2009: 125.
. Явными и скрытыми цитатами из Ходасевича Тынянов обнажает штативную формульную идиоматичность его поэтики и, соответственно, поэтологии 64 64 Возможно, в тыняновском высказывании есть и третья пародическая подтекстуальная отсылка – к статье Ходасевича «Окно на Невский» (1922). В этой статье Ходасевич патетически и многословно объясняется в любви к Пушкину, но тем не менее констатирует конец эстетики пушкинского периода и определяет художественный канон Пушкина как «кодекс форм прекрасных, но отживающих», в условиях изменившейся «жизн[и] и форм[ы] художества», по мнению Ходасевича, «нельзя и не надо превращать пушкинский канон в прокрустово ложе» (Ходасевич 1996a: 489–490). Призыв Ходасевича, на взгляд Тынянова, не был реализован практически. Имплицитно или непроизвольно Тынянов перекодирует поэтический императив Ходасевича («не превращать пушкинский канон в прокрустово ложе») в косвенное инвективное предупреждение самому Ходасевичу о том, что в пушкинский стих «плохо укладываются сегодняшние смыслы». Статья «Окно на Невский» была опубликована в журнале «Лирический круг», представлявшем одноименное литературное содружество «классицистов сегодняшнего дня» под предводительством Абрама Эфроса, в которое входил Ходасевич. Подробнее о Ходасевиче в «Лирическом круге» см. Андреева, Богомолов 1996: 571–572.
. При этом базовой проблемой является даже не сама классическая «рамка», а то, что она мыслится Ходасевичем как статическая, как «готовая вещь» без динамического ядра, как окостеневший и окаменевший, монументализированный и канонизированный сгусток.
Тыняновское описание Ходасевича корреспондирует со многими положениями другой ключевой работы 1924 года – с «Проблемой стихотворного языка». В ней Тынянов уже на первых страницах не без удовольствия констатирует, что знаменитая аналогия «форма – содержание = стакан – вино» изжита 65 65 Тынянов 2004: 8.
. В этой аналогии, с демонтажа которой, по сути, начался формализм, дефектна не пространственность сама по себе, а то, что «в понятие формы неизменно подсовывается <���…> статический признак, тесно связанный с пространственностью (вместо того, чтобы и пространственные формы осознать как динамические sui generis)» 66 66 Там же.
. Осознание и ощущение формы как непрерывной динамики («протекания», «изменения») и есть та самая «борьба» 67 67 Там же: 9.
, та самая схватка («mêlée») 68 68 Тынянов 1977: 172.
, в которой Ходасевич не участвует. Вместо этого он делает ставку на готовую «традицию», пусть и авторитетную, но – чужую.
Интервал:
Закладка: