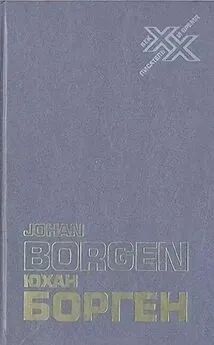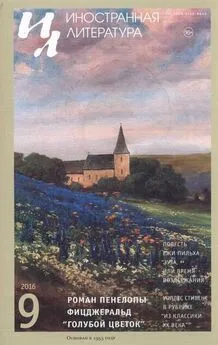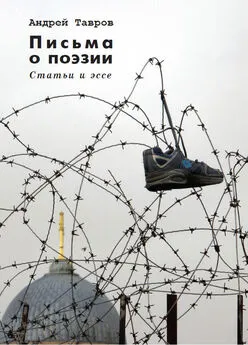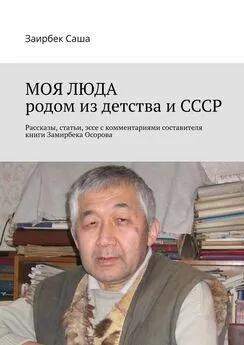Ирина Панченко - Эссе о Юрии Олеше и его современниках. Статьи. Эссе. Письма.
- Название:Эссе о Юрии Олеше и его современниках. Статьи. Эссе. Письма.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Ottawa
- ISBN:978-1-77192-378-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Панченко - Эссе о Юрии Олеше и его современниках. Статьи. Эссе. Письма. краткое содержание
Эссе о Юрии Олеше и его современниках. Статьи. Эссе. Письма. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Похожее настроение беспричинной «душевной тоски» Юрий Олеша выразил в своём единственном сонете «В сквере» (Цикл «Стихи об Одессе»). [120] Олеша Ю. В сквере // Бомба. 1917. № 15. С.11.
Однако дальнейшее творчество молодых поэтов показало, что словесные знаки «томления в земной юдоли» и «упадочного» мироощущения были для них лишь данью моде. Оба они посвятили своё перо революции. Вместе с поэтами Валентином Катаевым и Эдуардом Дзюбиным (он выбрал себе красивый псевдоним Багрицкий) Юрий Олеша и Борис Бобович активно сотрудничали в 1917–1918 гг. в новом журнале «революционной сатиры» «Бомба», который редактировал Незнакомец (таков был псевдоним одесского очеркиста Бориса Флита, «короля» местных фельетонистов). Скажем прямо, сатиры там было мало, но пейзажных, любовных, гражданских публицистических строк – предостаточно. Кроме публикации своих стихотворений, Олеша рисовал в том журнале ещё и карикатуры.
В 1920 году Олеша и Бобович бодро включились в выполнение «социальных заказов» советской власти. Так, в издательских планах Всеукраинского Госиздата Харькова на 1921 год значатся две агитпьесы Олеши, посвящённые борьбе с голодом в Поволжье, и четыре пьесы Бобовича: агит-посевные «Голос народа» и «Земля-кормилица», агит-производственная «Стрелочник Пахом» и агит-нравственная «Любовь и долг».
1920 год служит точкой отсчёта потому, что почти два предшествующих этой дате года в Одессе беспрерывно менялась власть, режимы, лозунги. Входили и уходили немцы, французы, белополяки, отряды Скоропадского, части атамана Григорьева, перешедшего на сторону большевиков… Одесситы и цвет интеллигенции страны (юристы, врачи, учёные, литераторы, художники, бежавшие в Одессу из «красной» Москвы и Петербурга), были измучены надеждами, страхом, ожиданиями, разочарованиями, необходимостью решать вопрос об эмиграции. Нервная, лихорадочная и призрачная, как сон, жизнь города длилась, пока окончательно не установилась советская власть.
Тем временем Олеша пытается научиться быть независимым в искусстве, но, конечно, такую зависимость то и дело обнаруживает. В попытках самовыражения он пробует многие поэтические манеры, сложившиеся к тому времени. И это естественно, потому что всякая учёба сопряжена с подражанием кумирам, стихи начинающих грешат литературностью.
Олеша всегда помнил, что жил в городе, овеянном гением Пушкина. В юности вместе с Багрицким они ходили по пушкинским местам: «На Пушкинской улице есть дом, где арка и над аркой доска, на которой высечено: «Здесь жил Пушкин». Мы останавливались перед этой аркой… Доска с именем Пушкина сияла над нами». [121] Олеша Ю. Новый человек – человек борьбы (Речь на встрече партактива Одессы с делегатами Первого всесоюзного съезда писателей) // Вопросы литературы. 1984. № 8. С. 181.
К образу Пушкина Юрий Олеша обращался неоднократно. Если в 1917 году в одном из олешевских стихотворений «окаменевший» Пушкин – только памятник, только заметная примета городского пейзажа («Бульвар»), то в 1918-м Юрий Олеша написал цикл стихов, в которых с наслаждением пересказал знаменитые пушкинские сюжеты: «Пиковая дама», [122] Олеша Ю. Пиковая дама // Южный огонёк. 1918. № 2. С. 6.
«Моцарт и Сальери»; [123] Олеша Ю. Моцарт и Сальери // Южный огонёк. 1918. № 3. С. 13.
«Каменный гость»; [124] Олеша Ю. Каменный гость. Там же.
«Лиза». [125] Олеша Ю. Лиза // Огоньки. 1918. № 26. С. 12.
С дерзостью юности в стихотворении «Пушкин» Олеша утверждал своё духовное родство с великим предшественником: «Моя душа – последний атом / Твоей души. Ты юн, как я…», [126] Олеша Ю. Пушкин // Огоньки. 1918. № 1. С. 5.
а во «Вступлении к поэме «Пушкин» языком символистов сожалел, что «Его (Пушкина) не знали. Вечность мигом / Хотели мерить, сны – земным». [127] Олеша Ю. Вступление к поэме «Пушкин» // Фигаро. 1918. № 7. С. 9.
Традиционным было сентиментальное стихотворение Олеши «Рождество», [128] Олеша Ю. Рождество // Огоньки. 1919. № 1. На обл.
посвящённое празднику. Наверное, подобные стихи ему самому читали в детстве. В стихотворении «Немножко момента» поэт замечает «маленькие скорби» бедных детей, которых не одарит рождественский Дед Мороз:
Неужели этих детских слёз,
Робких и застывших, – неужели
Где-то там в извечной колыбели
Не увидит маленький Христос?. [129] Олеша Ю. Немножко момента // «Первый альманах Литературно-художественного кружка. 1918. Январь. Впервые это стихотворение было опубликовано в журнале «Бомба». 1917. № 30. С. 5 под названием «Теперь».
На протяжении 1917 года Олеша почти в каждом номере журнала «Бомба» печатает стихи в традиции русской демократической поэзии: «Кровь на памятнике», «Пушкину – Первого мая», «Пятый год», «Как это происходит», «Терновый венец», «Мой взгляд на это», «По мукам»… В этих публицистических гражданских стихах Олеша предлагал своё эмоциональное, но неглубокое осмысление Первой мировой войны («Наплевать, кто завоюет Европу, / И чей там будет Эльзас, / Когда вот Ниночки жениха Стёпу / С войны привезли без глаз!»); Октябрьской революции, которую он связывал с французской революцией («тенью Марата», «звуками марсельезными»), с отмщением правнуками Пушкина за все страдания поэта («Третье отделение, горестный Кавказ!»). Олеша высмеивал скучающих эстетов, которые на «четвергах» у «дряблых дам» кричат, как «Русь погубят хамы»; высмеивал тех интеллигентов и буржуа, которые «спешат от ужаса свобод / Бежать на Запад, на Восток ли». Происходящие события поэт воспринимал, как «терновый венец» России, как её «хождение по мукам». При этом представление о будущем послереволюционной России у Олеши отвлечённо и крайне наивно – «празднества помпезные воли и весны».
В стихах 1917 года Олеша также обращается к теме одесских еврейских погромов. В «Книге прощания» приведена краткая дневниковая запись Олеши о событиях 1905 года: «Погром. Сперва весть о нём. Весть ползёт. Погром, погром… Что это – погром? Погром, погром… Затем женщина, дама, наша соседка, вбегает в гостиную и просит спрятать её семейство у нас». [130] Олеша Ю. Книга прощания. С. 256.
Этот же погром, свидетелем которого Олеша стал в шесть лет, он намного раньше, чем в дневнике, описал в стихотворении «Пятый год»:
…Запомнилось другое, и оно
Всегда живёт перед глазами.
Помню, Велели нам повесить над дверьми иконы…
Мне показалось непонятным,
Зачем всё это… после, через день
В пролёте лестницы, на чёрном ходе,
Я увидал, как лавочник еврей,
Тот самый, продававший мне черешни,
Лежал, раскинув руки, как паяц.
Смешно поднялась кверху борода
Над грязной окровавленной манишкой
И прямо на меня, я помню, снизу
Глядели жутко мёртвые глаза. [131] Олеша Ю. Пятый год// Бомба. 1917. № 7.
Интервал:
Закладка:


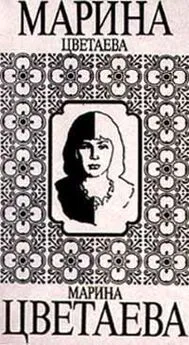

![Пётр Киле - Эстетика Ренессанса [Статьи и эссе]](/books/424937/petr-kile-estetika-renessansa-stati-i-esse.webp)