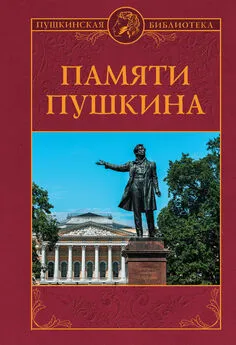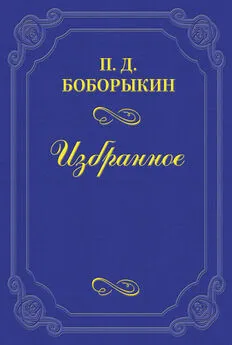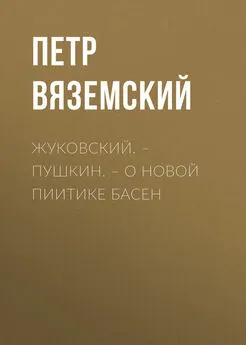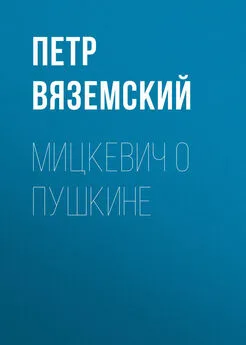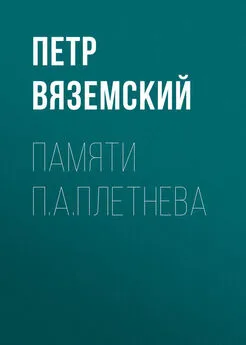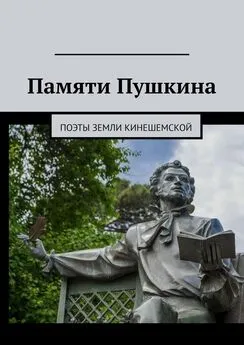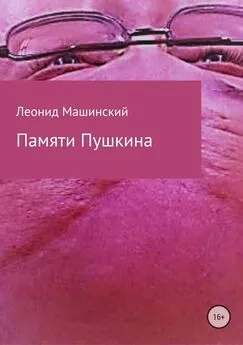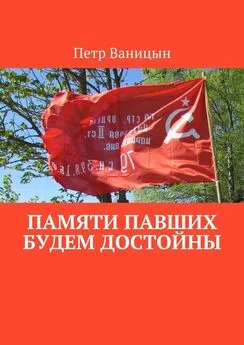Петр Владимиров - Памяти Пушкина
- Название:Памяти Пушкина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4484-8117-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Владимиров - Памяти Пушкина краткое содержание
Памяти Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нельзя не отметить, что из небольшого числа всех произведений Гебеля Жуковский выбрал подходившие к его настроению и опускал бойкие песни торговцев, рабочих и т. п.
В начала 30-х годов Жуковский с особенным увлечением переводил «Ундину», в которой выразилось настроение поэта: «Испытали все мы неверность здешнего счастья… счастлив еще, когда при разделе житейского был ты сам назначен терпеть, а не мучить; на свете сем доля жертвы блаженней, чем доля губителя. Если сей лучший жребий был твой, читатель, то, может быть, слушая нашу повесть, ты вспомнишь и сам о своем миновавшем, и тихо милая грусть тебе через душу прокрадется, снова то, что прошло, оживет, и ты слезу сожаленья бросишь». Если мы обратимся к переводам Жуковского из Шиллера, то и здесь увидим, какую видную роль играют женские типы: «Кассандра» 1809 года, «Жалоба Цереры» 1831 года, «Орлеанская дева» 1821 года. Все это материалы, без сомнения, отражавшиеся и в жизни русской женщины 20—30-х годов, и в литературе. Опять черта, не лишенная значения для пушкинской Татьяны, которую поэт готов сравнить со «Светланой» Жуковского (т. III, гл. V, 326). Вольный перевод из Шиллера «Голос с того света» 1815 года, начинающийся словами почившей: «Не узнавай, куда я путь склонила, в какой предел из Mиpa перешла…» – может быть сближен с чудными элегиями Пушкина на кончину госпожи Ризнич и др.
Итак, в области поэмы («Двенадцать спящих дев» и др.) и элегии Жуковский прямой предшественник Пушкина, в особенности по глубокому выражению женской души. Сюда надо присоединить и баллады Пушкина («Утопленник», «Жених» и др.), которые отличаются от баллад Жуковского большей верностью русской народной легенде. Творчество Пушкина иногда так совпадало с переводами и подражаниями Жуковского, что Пушкин должен был оправдываться в независимости своих трудов от воздействий Жуковского, как, например, во время появления «Шильонского узника» и «Братьев-разбойников».
Поэзия Пушкина в этом новом направлении, близком к возвышенному настроению Жуковского, развернулась на юге. Герой поэм Пушкина столько же подражание Байрону, сколько и рыцарской романтической поэзии Жуковского и вместе с тем результат дум Пушкина о пережитом. Рыцарь Жуковского, страдающий от несчастной любви, холоден к настоящему: в его душе «к далекому стремленье, минувшего привет» («Невыразимое» 1818 года); он смотрит недоверчиво на все земное, так как здесь не суждено сбыться мечтам. Это возвращение к направлению Жуковского последовало в Пушкине после легкой сатирической деятельности в Петербурге – смелой и резкой до крайности – и после увлечения театром, светской жизнью.
Возвращением с юга, как и первоначальной высылкой на юг, вместо более тяжкой кары, Пушкин был обязан Карамзину. В Михайловском поэт ревностно принялся за чтение «Истории» Карамзина. Если на основании прочтения первых томов «Истории» Карамзина Пушкин мог создать «Песнь о Вещем Олеге» 1822 года – вероятно, и под впечатлением от посещения Киева в 1820 и 1821 годах, – то теперь, в сельском уединении, среди псковской старины в народном быте, песнях, сказках, Пушкин обратился ко времени Бориса Годунова и Лжедимитрия. Сам Карамзин давно питал пристрастие к загадочному характеру Годунова. Еще в «Вестнике Европы» 1802 года («Исторические воспоминания и замечания на пути в Троице») Карамзин подробно рассуждал о событиях, сопровождавших возвышение и падение фамилии Годунова. Он колебался признать летописные обвинения «Годунова убийцей св. Димитрия», удивлялся его силе воли (в сторону властолюбия и разума Кромвеля), сомневался в мнимых преступлениях, взведенных на Бориса летописцами, хвалил его за любовь к семейству, к наукам, к благосостоянию народа и, наконец, подобно летописцу Пимену, заключал свой рассказ о самозванце и гибели семьи Бориса: «Бог судит тайного злодея; а мы должны хвалить царей за все, что они делают для славы и блага отечества»… «Властолюбие, – доказывал в своей статье Карамзин, – делает людей великими благодетелями и великими преступниками». В 1821 году историк в письмах к Малиновскому (Погодин: H.М. Карамзин, ч. II, 266–267) оживленно говорит о своей работе: «Я теперь весь в Годунове: вот характер исторически трагический (о временах Годунова), хочется отделать его цельно, не отрывком». Борис – несомненный убийца Димитрия; неслыханным злодеянием он достиг престола; но кара свыше не принесла ему желаемого счастья, несмотря на все его благодеяния. «Он не был , но бывал тираном; не безумствовал, но злодействовал подобно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. Если Годунов на время благоустроил Державу, на время возвысил ее во мнении Европы, то не он ли и ввергнул Россию в бездну злополучия, почти неслыханного – предал в добычу ляхам и бродягам, вызвал на театр сонм мстителей и самозванцев истреблением древнего племени Царевого?» Таков вывод историка в конце 2-й главы XI тома. Этот вывод со всеми подробностями был принят Пушкиным для его «Драматической повести («Начинаем повесть, – говорит Карамзин о Самозванце, – равно истинную и неимоверную», изд. 1843 г. III кн., XI т., стр. 73), комедии о настоящей беде Москов. госуд. О царе Борисе и о Гришке Отрепьеве», напечатанной под простым заглавием: «Борис Годунов» 1825 г.». Окончив драму, Пушкин хотел посвятить ее Жуковскому, которому писал: «Отче, в руце твои предаю дух мой!.. трагедия моя идет, и думаю к зиме (от 17 августа 1825 г.) ее кончить, вследствие чего читаю только Карамзина да летописи. Что за чудо эти два последние тома Карамзина! Какая жизнь!» И Пушкин, по смерти историка, выпустил «Бориса Годунова» с посвящением: «Драгоценной для России памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд именем его вдохновенный с благоговением и благодарностью посвящает Александр Пушкин». Мы бы могли указать отступления от «Истории» Карамзина, происшедшие, по всей вероятности, оттого, что Пушкин держал в памяти столь резко очерченные историком характеры лиц, названия их, которыми поэт распоряжался иногда произвольно (например, летописец Пимен – вероятно, то же лицо, что у Карамзина спутник Григория к Луевым горам, инок Днепрова монастыря, Пимен, XI т, 75 стр., изд. Эйнерлинга), как и годами (по словам Пимена, у Пушкина, убиенный царевич был 7 или 12 лет, а по Карамзину – 9). Но чаще повторяются у Пушкина самые выражения из «Истории» Карамзина: «Ударили в набат, бегут, царица мать в беспамятстве, безбожную предательницу – мамку» (см. т. Х, стр. 78); или «ах, он сосуд дьявольский, этака ересь» (XI т., стр. 74) и др.
«История» Карамзина действительно и до сих пор дает много подробностей, так как историк, пользуясь массой источников и пособий, не упускал ни общего хода событий, ни частностей. Поэтому Пушкин и мог сказать, что «Карамзину (он) следовал в светлом развитии происшествий». Примечания Карамзина возбуждали любопытство Пушкина для самостоятельных изучений летописи, записок иностранцев. «В летописях старался, – говорит Пушкин, – угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени». Мало того, Пушкин обращался и к древнерусской литературе и народной словесности (в Михайловском он записывал народные песни и сказки). «Одна просьба, моя прелесть! – пишет поэт Жуковскому в августе 1825 года, – нельзя ли мне доставить или жизнь Железного Колпака, или жизнь какого-нибудь юродивого. Я напрасно искал Василия Блаженного в Четьи-Минеях. А мне бы очень нужно» (VII, 150).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: