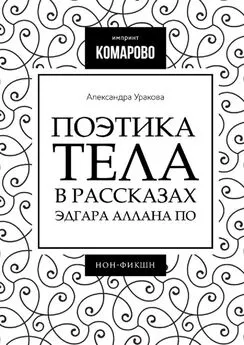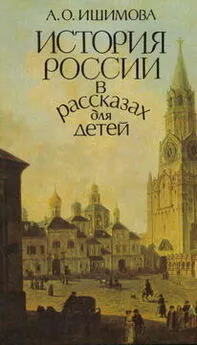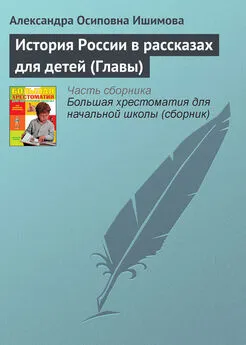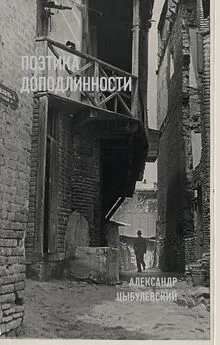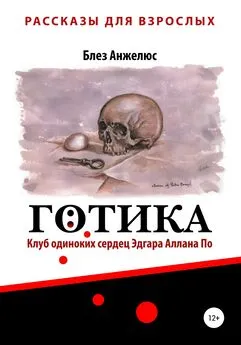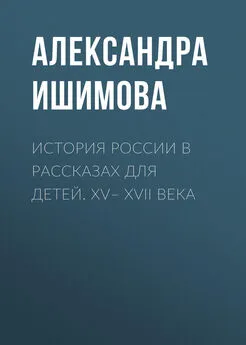Александра Уракова - Поэтика тела в рассказах Эдгара Аллана По
- Название:Поэтика тела в рассказах Эдгара Аллана По
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448576805
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александра Уракова - Поэтика тела в рассказах Эдгара Аллана По краткое содержание
Поэтика тела в рассказах Эдгара Аллана По - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
10 10 Scarry E. Body in Pain. The Making and Unmaking of the World. N.Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 1985.; и книгу Сьюзен Зонтаг «Болезнь как метафора» (1978), показавшей, как болезнь (туберкулез в XIX-м в., рак в XX-м) неизменно «высказывает» себя при помощи метафор, отчуждающих и искажающих телесное переживание
11 11 Sontag S. Illness as a Metaphor. AIDS and its Metaphors. Penguin Books, 2002 (1 st eds. – 1978; 1989)..
Изучение тела в литературных текстах представляется еще более проблематичным. Если тело – это дискурсивный конструкт, продукт социокультурных практик, то и текст в таком случае обычно выступает в роли документа эпохи, в одном ряду с письмами, судебными протоколами, историческими хрониками, рекламными объявлениями. Другой возможный подход – отношение к телу как к основной теме произведения, предмету изображения или авторской рефлексии. Научный интерес провоцируют тогда те тексты, в которых телесность уже наделена дополнительной смысловой нагрузкой, скажем, романы Рабле, Сада, Золя, Джойса, Генри Миллера. Что, однако, часто не принимается в расчет и в первом, и во втором случае – так это неоднозначные и зачастую трудноуловимые отношения между телом и текстом, телом и письмом. Или отрицается сложная знаковая организация художественного текста, или же тело уравнивается с другими литературными мотивами. Тем более для нас важно обозначить то понятийное и методологическое поле, в рамках которого мы будем работать.
По аналогии с «нулевой степенью письма», очевидно, можно говорить о «нулевой степени» присутствия тела в тексте. Об этом очень точно пишет Умберто Эко в книге «Роль Читателя» на примере «Вполне парижской драмы» Альфонса Алле, замечая, что герой рассказа, Рауль, может «прожить (в тексте) без легких, но если бы мы читали „Волшебную гору“ Томаса Манна, вопрос о легких Ганса Касторпа не казался бы нам таким смехотворным». Поскольку перед нами не трактат по анатомии, а художественный текст, анатомические свойства персонажа, говоря словами Эко, остаются «отключенными», «усыпленными»; то, что у героя есть «система кровообращения, пара легких и даже поджелудочная железа» подразумевается имплицитно 12 12 Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. С.-П.: Symposium; Издательство РГГУ, 2005. С. 47.
. В случае Касторпа легкие становятся значимыми, потому что герой заболевает туберкулезом. «Усыпленное» качество оказывается как бы проявленным, маркированным на письме: будь то стесненное, затрудненное дыхание туберкулезного больного – или, напротив, легкое дыхание гимназистки, которое после ее смерти рассеивается в холодном весеннем ветре. Несмотря на «книжное» происхождение «легкого дыхания» Оли Мещерской, бунинский рассказ, по-видимому, не случайно вдохновил своего самого известного читателя, Льва Выготского, на «экспериментальные записи… дыхания во время чтения отрывков прозаических и поэтических, имеющих разный ритмический строй». «Болезненную легкость», вызываемую у него рассказом, Выготский, как известно, непосредственно связывал с особой организацией художественного материала, тем самым исследуя, в рамках «психологии искусства», взаимодействие текста и тела 13 13 Выготский Л. С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. М.: Лабиринт, 1997. С. 197.
.
Чтобы стать предметом или даже источником повествования, тело непременно должно быть подвергнуто семиотизации, считает американский исследователь Питер Брукс. Мелодраматический сюжет обычно строится вокруг телесной метки – родимого пятна или нательного крестика, по которой распознается происхождение героя или героини. Порка восьмилетнего Руссо мадемуазель Ламберсьер превращается в «эротическое означающее», определяющее его последующие отношения с женщинами и соответственно истории, рассказанные в «Исповеди», равно как и сам характер их изложения. В «Человеческой комедии» Бальзака тело куртизанки, тело «с историей», участвующее в символическом обмене, инициирует, «производит» нарративы о страсти, желании, жадности и т. д. Метка понимается Бруксом, таким образом, не столько в буквальном, сколько переносном смысле, в ее соотношении с повествовательной динамикой 14 14 Brooks P. Body Work. Objects of Desire in Modern Narrative. Cambridge; L..: Cambridge Univ. Press, 1993. Cм. его гл. «Marking Out the Modern Body: The French Revolution and Balzac». P. 54—88.
.
Концепция Брукса во многом обязана идеям Ролана Барта. В самом деле, в «S/Z» (1970) Барт делает предметом анализа меченное, кастрированное тело, рассматривая кастрацию и как «основу сюжета» рассказа Бальзака «Сарразин», и как его «символическую структуру». Более того, рассказ истории о кастрате в итоге «видоизменяет повествование». Обмен «истины» на «ночь любви», «рассказа» на «тело» в рамочной части «Сарразина» дает сбой именно потому, что «болезнь в конце концов затрагивает и прекрасную слушательницу, отвращая ее от любви и препятствуя выполнению условий договора. Попавший в собственную ловушку влюбленный отвергнут, ибо безнаказанно рассказывать истории о кастрации нельзя». Тело, отмеченное кастрацией, символической неполноценностью, нехваткой, не просто является объектом повествования, но и «заражает» это повествование; «переносчиком инфекции становится сам рассказ» 15 15 Барт Р. S/Z. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 193.
. Между кастрированным и кастрирующим телом и рассказом о нем устанавливаются миметические отношения; телесный «недуг» оказывает прямое воздействие на конструкцию текста. Тело в такой интерпретации начинает выполнять специфическую функцию, непосредственно участвуя не только в производстве смыслов, но и в организации самой повествовательной структуры. Оно неотделимо от вымышленного мира произведения и вместе с тем это нечто большее, чем просто литературный мотив или сюжет.
Другой подход предлагает оппонент Барта Жан Старобинский, обращаясь к телесной тематике в произведениях Монтеня, Флобера, Расина… и опираясь на феноменологию Сартра и Мерло-Понти. Швейцарского ученого, который одним из первых «широко и серьезно поставил в конкретных историко-культурных исследованиях модную сегодня проблему „тела в культуре“», интересуют прежде всего кинестезические переживания персонажа в той мере, в какой они проявляют себя в тексте и участвуют в реконструкции «авторского сознания» 16 16 Зенкин С. Н. О Жане Старобинском // Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. В 2 т. Т.1. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 9.
. Характерно, однако, то, что Старобинский относится к телесному переживанию как к мотиву совершенно особому. В сноске к статье «Шкала температур: Язык тела в „Госпоже Бовари“» (xxx) он поясняет, что его задача определить место такого мотива «в непрерывности текста, в соприкосновении с элементами иной природы» 17 17 Старобинский Ж. Шкала температур: Язык тела в «Госпоже Бовари // Указ. изд. С. 433.
. Анализируя текстовые фрагменты как особым образом организованные перцептивные ряды , Старобинский воссоздает иную повествовательную завязь романа, «ось» или «шкалу» температур, переводящую смысловые регистры на язык телесных ощущений. Проблема соотношения письма и тела оказывается первостепенно важной для швейцарского исследователя: будь то «убывание» телесного тепла при его переводе в слово, сказанное персонажем, или проекция (само) ощущения Флобера на текстовую реальность 18 18 Там же. С. 432—463.
.
Интервал:
Закладка: