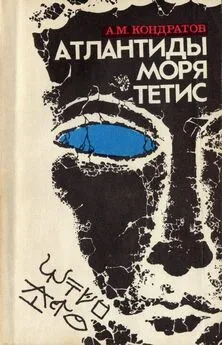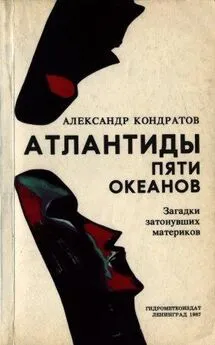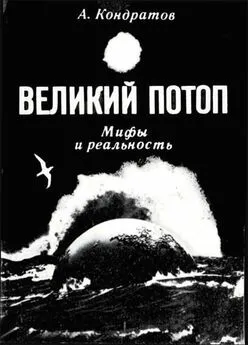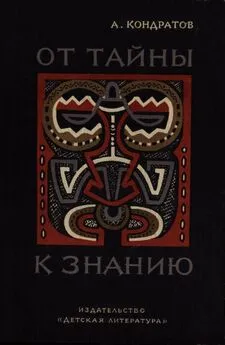Александр Кондратов - Звуки и знаки
- Название:Звуки и знаки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Знание»
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Кондратов - Звуки и знаки краткое содержание
Язык — это, по слову Маркса, «действительность мысли» и, как всякая другая действительность, обладает неисчерпаемым богатством содержания. Отсюда — огромное число языковедческих дисциплин, и среди них те, что родились недавно на «стыке» языкознания с математикой, кибернетикой, семиотикой (наукой о знаковых системах). Вот об этих недавно родившихся языковедческих дисциплинах, о том, чем они занимаются и к каким приходят результатам, и рассказывается в этой книге, первое издание которой выходило в 1966 г.
Автор книги — кандидат филологических наук.
Для широкого круга читателей.
Звуки и знаки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иными словами, значения слов комбинируются не по простым арифметическим правилам, а по каким-то другим, пока что неизвестным. При соединении значений целое оказывается не просто больше суммы его частей, а порой качественно чем-то иным. Или во всяком случае не равно ему (кстати, это одна из особенностей человеческого восприятия, работы нашего мозга по опознаванию образов и т. д.).
Это становится наиболее ясным, когда мы обращаемся к предложению, вершине языковой иерархии (фонема — морфема — слово — фраза). Отдельное слово обладает несколькими значениями. Но в контексте мы выбираем одно из них. Какое? Это зависит уже не от самого слова, а того предложения, в котором оно стоит. И даже от места этого слова в предложении.
Во многих языках мира — в тибетском, китайском и полинезийских — нельзя опознать существительное, прилагательное или глагол, пока не определим, чем является слово в предложении — подлежащим, определением или сказуемым. Да и в русском языке для понимания смысла слов важно знать их группировку. Иными словами, значение слов определяется во многом синтаксисом.
Это — четвертая «заповедь». А с ней связана пятая, гласящая, что число различных предложений практически бесконечно. Стало быть, бесконечно и число значений, которые могут быть выражены. Как же мы говорим и понимаем друг друга?
По всей видимости, существует некое порождающее устройство, что позволяет из ограниченного. числа элементов-слов по определенным правилам грамматики строить бесконечное множество предложений. Причем порождение фраз подчиняется принципам, отличным от жесткой программы автомата или врожденной сигнальной системы, которая характерна для животных. Ведь в разговорной речи мы очень часто нарушаем правила языка: неточно произносим фонемы, комкаем слова, опускаем связки и другие грамматические элементы в предложении… И тем не менее понимаем друг друга.
Все попытки сформулировать эти правила в виде законов языка до сих пор успеха не имели.
Более того, как подчеркивает Дж. Миллер (и это шестая его «заповедь»), описание правил, которыми владеют все знающие язык, отличается от описания психологических механизмов, действующих при использовании этих правил. Описание языка, его структуры — не есть описание носителя языка, черного ящика, который воспринимает, хранит, перерабатывает и передает информацию. И, как замечает Миллер, «пределы кратковременной памяти самым серьезным образом ограничивают нашу возможность следовать нашим же собственным правилам». А ведь при разговоре мы пользуемся именно этой кратковременной, или оперативной памятью, ибо передача информации идет быстро, почти на пределе пропускной способности обработки информации мозгом.
И, наконец, последняя седьмая «заповедь» Все попытки обучить животных говорить по-человечески были неудачны. По всей видимости, эта задача неразрешима (хотя зоопсихологи с успехом обучают шимпанзе «языку жестов», «языку знаков», но не звуковому языку людей!). Как говорят специалисты, чтобы усвоить человеческий язык и чтобы пользоваться им, нужно быть человеком.
«Как это бывает в науке, можно считать, что мы наполовину победили, если начали правильно формулировать вопросы, — заключает свои «заповеди» Дж. Миллер. — Однако интереснее всего создать некоторую позитивную программу исследований, если мы действительно хотим получить реалистическое представление о том, что такое язык… Если гипотетические построения, которые необходимы для исследования, кажутся вам чересчур сложными и нестрогими, чересчур невероятными и надуманными, вам лучше отказаться от мысли исследовать язык. Потому что язык сложен, произволен и осмыслен и никакие теории относительно языка не сделают его иным».
Итак, все, что я хотел подчеркнуть своими «заповедями», говорит Дж. Миллер, следующее: язык невероятно сложен.
И все-таки ученые пробуют решить загадку этого невероятно сложного языка.
«Язык в колыбели»
«Вклад Энтони в лингвистическую теорию» — так называется предисловие, написанное к книге Руфи Вейер профессором Гарвардского университета Романом Якобсоном. Книга называется «Язык в колыбели». А Энтони — это двухлетний мальчик, чья речь в кроватке в течение нескольких месяцев записывалась на магнитофон его мамой Руфью Вейер. Обработка этих записей легла в основу книги, которую штудируют лингвисты, психологи и прежде всего психолингвисты. Ибо становление языка — это один из самых важных и надежных «ключей», с помощью которого можно проникнуть в загадку нашего обыденного чуда — человеческой речи.
Выше мы уже обсуждали с вами вопрос о том, как ребенок овладевает речью. Логика повествования о языке как системе подводит нас снова к этой теме.
Итак, человек не рождается с умением говорить, и без помощи людей ребенок языком не овладеет. Об этом написано даже в учебнике «Русского языка» для четвероклассников. Но вместе с тем у человека есть врожденная способность говорить.
С момента своего рождения начинает издавать звуки младенец. Крики беспокойства и звуки удовлетворения — так отвечает новорожденный на все события, происходящие вокруг. Конечно, с человеческой речью они не имеют ничего общего, это чисто биологические, животные «крики нутра». Никто не обучал им ребенка, они встроены в нас природой.
Младенец растет. Увеличивается его мир, растет и число разных звуков, которые издает малыш. Вначале крики беспокойства и звуки удовольствия, если мерять их рамками нашей обычной речи, — это гласные звуки. Постепенно звуковой репертуар увеличивается: к крикам беспокойства добавляются в, л, х, дж, а к звукам удовольствия — согласные г, к, р…
Почему именно эти звуки? Лишь потому, что человеческое горло легче всего может издать их. Ребенок не произносит, а только издает звуки, точно так же, как и любой другой детеныш животных, обладающий голосом.
И лишь позже начинается превращение инстинктивной, физиологической, «нутряной» речи в настоящую человеческую речь. Превращение происходит не само собой, а под влиянием других людей: отца, матери, окружающих близких. Детский лепет переходит в членораздельную речь. В два года ребенок знает около трехсот слов. В три года — около тысячи слов, в четыре — от полутора до двух тысяч слов.
Но, как говорил знаменитый немецкий языковед Вильгельм Гумбольдт, «усвоение детьми языка не есть приспособление слов, их складывание в памяти и оживление с помощью речи, но развитие языковой способности с возрастом и упражнением». Именно на развитие этой языковой способности и обращают в первую очередь свое внимание ученые.
Когда ребенок лепечет, никакие усилия не заставят его говорить по-настоящему. Он для этого еще не созрел. Если же, напротив, пропустить период «от двух до пяти» и не обучать ребенка языку, он рискует стать умственно отсталым и никогда не овладеть речью. Есть определенные оптимальные, критические периоды развития ребенка для усвоения языка: ни раньше, ни позже он его как следует не усвоит.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: