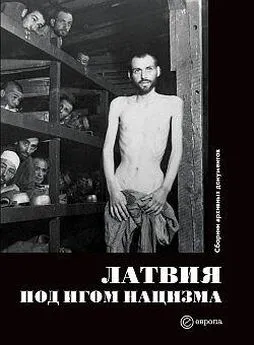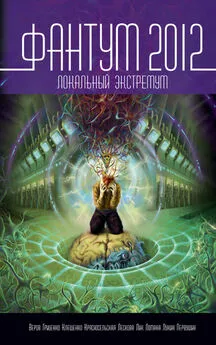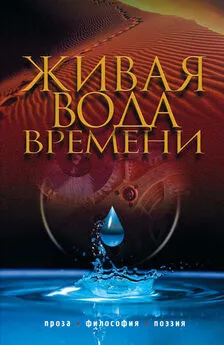Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
- Название:Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НМЦ «Логос»
- Год:2010
- Город:Ростов-на-Дону
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова краткое содержание
Замысел этого сборника родился на спецкурсе «Творчество Иосифа Бродского», который читается на факультете филологии и журналистики ЮФУ. Существенную часть курса составляют опыты коллективного пристального прочтения ключевых стихотворений поэта. Успехи исторической поэтики, понятой формально, серьезно отвлекают исследователя от художественного целого — все внимание зачастую сосредоточивается на судьбе отдельных поэтических элементов в контексте творчества, эпохи, истории литературы. Однако для литературоведа как профессионального читателя текстов вдумчивое исследование элементов необходимо прежде всего для понимания художественного целого. Сказанное вполне относится и к исследованиям творчества И. Бродского. Бродсковедению не хватает опыта пристального прочтения стихотворений поэта. Книга поделена на пять разделов — ее открывает обобщающее эссе о поэте, написанное к юбилею, далее следует раздел, посвященный прочтениям одного стихотворения, следом — разделы, посвященные циклам и эссе Бродского. Заключает сборник теоретическая статья о западной традиции работы с текстом, которая стоит за установкой на пристальное прочтение.
Книга предназначена для филологов, преподавателей, аспирантов, студентов, а также для всех, кто интересуется творчеством И.А. Бродского.
Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Имеется тут и еще один «выход из положения» — не самый, правда, популярный и едва ли способный — даже сегодня — собрать большое число сторонников. При восприятии «одноязычного» стихотворения следует обращаться именно и только к английскому тексту, в котором все еще ощутимо тепло руки творца, читая, вчитываясь в него по возможности глубоко, с ясным осознанием авторского выбора данного национального языка в ущерб другому. Благо, английский, второй язык Бродского как поэта-билингва, не входит на сегодняшний день в число редких или «экзотических», но самым естественным образом снискал себе право именоваться Global English.
И.Р. Ратке. «ПИСЬМА ДИНАСТИИ МИНЬ» И. БРОДСКОГО: ДИПТИХ ОБ УПАДКЕ И РАЗРУШЕНИИ
I
«Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки
вырвался и улетел. И, на ночь глядя, таблетки
богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного,
откидывается на подушки и, включив заводного,
погружается в сон, убаюканный ровной песней.
Вот такие теперь мы празднуем в Поднебесной
невеселые, нечетные годовщины.
Специальное зеркало, разглаживающее морщины,
каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке.
Небо тоже исколото шпилями, как лопатки
и затылок больного (которого только спину
мы и видим). И я иногда объясняю сыну
богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки.
Это письмо от твоей возлюбленной, Дикой Утки,
писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне императрица.
Почему-то вокруг все больше бумаги, все меньше риса».
II
«Дорога в тысячу ли начинается с одного
шага, гласит пословица. Жалко, что от него
не зависит дорога обратно, превосходящая многократно
тысячу ли. Особенно отсчитывая от «о».
Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли —
тысяча означает, что ты сейчас вдали
от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова
перекидывается на цифры; особенно на нули.
Ветер несет нас на Запад, как желтые семена
из лопнувшего стручка, — туда, где стоит Стена.
На фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф,
как любые другие неразборчивые письмена.
Движенье в одну сторону превращает меня
в нечто вытянутое, как голова коня.
Силы, жившие в теле, ушли на трение тени
о сухие колосья дикого ячменя». [24] Сочинения Иосифа Бродского. ТЛИ. СПб., 1997. С. 154–155.
(1977)
В наследии Иосифа Бродского обращение к различным формам эпистолярного жанра было систематическим и частым. Перечислим только те тексты, стихотворные и прозаические, в заглавии которых содержится прямое указание на жанровую специфику: «Неотправленное письмо» (1962–1963), «Зимняя почта» (1964), «Письмо в бутылке» (1965), «Открытка из города К» (1967), «Послание к стихам» (1967), «Письмо генералу Z» (1968), «Письма римскому другу» (1972), «Открытка из Лиссабона» (1988). Кроме того, не отраженный в заглавии, но явно выраженный в самом тексте характер послания носят, к примеру, такие стихотворения, как «Одиссей Телемаку» (1972) и «Ниоткуда с любовью…» (1975–1976). И, наконец, отметим носящие характер вставных посланий части стихотворений «Новый Жюль Верн» (1977), в котором соблюдение жанровых условностей подчеркнуто заключающей 9-ю часть ремаркой «Здесь обрываются письма к Бланш Дела-рю от лейтенанта Бенца» [25] Бродский И.А. Форма времени: стихотворения, эссе, пьесы. В 2 т. Т. 2. Минск, 1992. С. 36; далее — ФВ.
и «Мексиканский дивертисмент» (1975). В этот ряд естественным образом вписывается стихотворный диптих «Письма династии Минь» (далее — ПДМ).
Сам Бродский неоднократно говорил о своей особой любви к этому стихотворению. Оно названо в числе любимых, например, в интервью Еве Берч и Дэвиду Чину [26] Бродский И. Большая книга интервью. Второе, исправленное и дополненное издание. М., 2000. С. 61; далее — БКИ.
. Можно предположить, что особая значимость ПДМ в сознании Бродского была связана с отношением к этому стихотворению одного из самых авторитетных для него людей — Геннадия Шмакова. Указание на это содержится, к примеру, в книге Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским»: «<���Шмаков> первый, кто меня и убедил, что это <���ПДМ> — хорошее стихотворение. У меня-то на этот счет были всякие сомнения» [27] Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 212–213; далее — Волков.
. Или в интервью, данном в 1990 году Юрию Коваленко: «Оно нравится двум или трем моим знакомым, одного из которых <���Шмакова> уже нет в живых» [28] БКИ. С. 473.
. Но, помимо сугубо личностной мотивировки, любовь поэта к ПДМ может обосновываться, на наш взгляд, еще и другой, уже сугубо внутрилитературной причиной. Стихотворение создано в тот период творчества Бродского (вторая половина 1970-х годов), когда поэт, по его словам, «начал медленно двигаться к чему-то вроде акцентного стиха, подчеркивая силлабический, а не силлабо-тонический элемент, возвращаясь к почти тяжеловесной, медленной речи» [29] БКИ. С. 55.
.
Можно предположить, что ПДМ стали одной из главных вех на пути этого перехода к классическому «позднему» Бродскому; во всяком случае, в уже упомянутом интервью Ю. Коваленко поэт, говоря о ПДМ, счел нужным специально подчеркнуть просодическую специфику этого текста, приводя в числе причин своей особой любви к нему прежде всего такую: «В этом стихотворении несколько иная поэтика и, кроме того, в нем употреблена другая каденция» [30] Там же. С. 473.
.
Композиционно ПДМ представляет собой диптих, состоящий из равных по объему (16 строк), но тематически, интонационно, метрически, в плане рифмовки отличающихся друг от друга стихотворений. Первое, «Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки…», четко выдержано в духе «женской маски», второе, «Дорога в тысячу ли начинается…» — в духе маски мужской. Такая структура позволяет соотнести ПДМ еще с одним диптихом Бродского — стихотворением «Дебют» (1970), также построенном как пара «женское — мужское» с соблюдением принципа равнострочности. В то же время налицо и несомненное различие между не столь уж отдаленными друг от друга во времени текстами. «Дебют» (далее — Д) представляет собой две картины мира, рождающиеся после основного события — утраты девственности. Написанные пятистопным ямбом обе части диптиха носят повествовательный характер и призваны подчеркнуть не столько даже эмоциональную, сколько метафизическую разницу в отношении героев к приобретенному опыту. В «женской» части главным становится расширение чувственной картины мира: «Она лежала в ванне, ощущая / всей кожей облупившееся дно», «…еще одно / отверстие, знакомящее с миром» [31] ФВ, т.1. С. 248 (цитаты из «Дебюта» приводятся в редакции, предложенной этим изданием).
. «Мужская» часть пронизана прежде всего чувством растерянности, неготовности к новому опыту: «он вздрогнул», «и почему-то вдруг с набрякших губ / Слетела ругань», «Он покраснел и, осознав нелепость, / так удивился собственному рту», «ошеломленный первым оборотом» [32] Там же. С. 248–249.
. В целом же обе части Д близки друг другу и выдержаны в едином семантическом и стилистическом ключе.
Интервал:
Закладка: