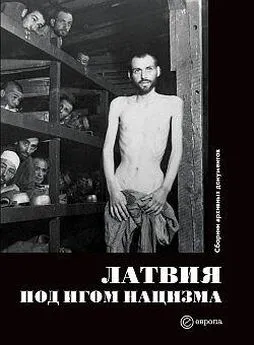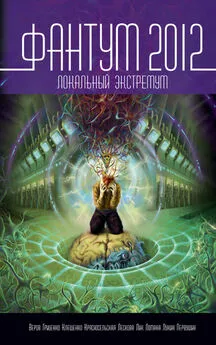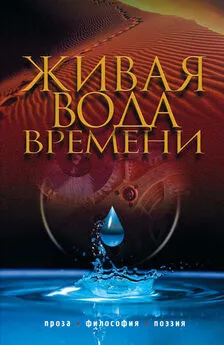Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
- Название:Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НМЦ «Логос»
- Год:2010
- Город:Ростов-на-Дону
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова краткое содержание
Замысел этого сборника родился на спецкурсе «Творчество Иосифа Бродского», который читается на факультете филологии и журналистики ЮФУ. Существенную часть курса составляют опыты коллективного пристального прочтения ключевых стихотворений поэта. Успехи исторической поэтики, понятой формально, серьезно отвлекают исследователя от художественного целого — все внимание зачастую сосредоточивается на судьбе отдельных поэтических элементов в контексте творчества, эпохи, истории литературы. Однако для литературоведа как профессионального читателя текстов вдумчивое исследование элементов необходимо прежде всего для понимания художественного целого. Сказанное вполне относится и к исследованиям творчества И. Бродского. Бродсковедению не хватает опыта пристального прочтения стихотворений поэта. Книга поделена на пять разделов — ее открывает обобщающее эссе о поэте, написанное к юбилею, далее следует раздел, посвященный прочтениям одного стихотворения, следом — разделы, посвященные циклам и эссе Бродского. Заключает сборник теоретическая статья о западной традиции работы с текстом, которая стоит за установкой на пристальное прочтение.
Книга предназначена для филологов, преподавателей, аспирантов, студентов, а также для всех, кто интересуется творчеством И.А. Бродского.
Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Среди формальных отличий текста Epitaph for a Centaur, заключающего собой цикл, отметим также оригинальную схему рифмовки. Нетрудно заметить, что все 5 стихотворений цикла демонстрируют вариативность рифменных рисунков. «Кентавры I»: АБАБВГВГДЕДЕЖЗЖЗ (четыре четверостишия с перекрестными женскими рифмами); «Кентавры II»: АБАБВГВГДЕДЕЖЗЖЗ (четыре четверостишия с перекрестными женскими рифмами); «Кентавры III»: ААББВВГГДДЕЕЖЖЗЗ (четыре четверостишия c парными женскими рифмами); «Кентавры IV»: АбАбвГвГдЕдЕжЗжЗ (четыре четверостишия c перекрестными рифмами; по месту ударения женские рифмы чередуются с мужскими). В английской версии, в целом, выдерживается тот же рисунок. Схема рифмовки Epitaph for a Centaur иная: aBaBcDcDeFeFgHgH (четыре четверостишия c перекрестными рифмами; во втором, третьем и четвертом четверостишиях возникают редкие для английского стихосложения дактилические рифмы, чередующиеся с мужскими).
Теперь сосредоточимся на содержательной стороне стихотворения Epitaph for a Centaur. За точку отсчета в исследовательской интерпретации примем то положение, что художественный текст, поэтический в ничуть не меньшей (если не большей) степени, представляет собой продуктивную динамическую структуру, чье содержание явлено прежде всего во взаимодействии заложенных в ней частных смыслов, развивающих изначальный авторский замысел «от начала до конца» текста, от его заглавия к последней строке, предложению, слову.
В двух полнозначных лексемах заглавия актуализирован (провозглашен, т. е. «обещан» читателю) античный топос последующего текста. Epitaph («эпитафия») определяется как надгробная надпись, часто стихотворная; как жанр, эпитафия ведет свое начало со времен Древней Греции и Рима [53] Определение понятия «эпитафия» см. в общих и специальных справочных изданиях; более подробно — в словарях литературоведческих терминов.
. Centaur («кентавр») — персонаж античной мифологии; самыми известными среди кентавров был мудрый, доброжелательный Хирон, сын Кроноса и нимфы Филиры, учитель Ахилла и Асклепия, и Фол, сын Селена и нимфы Мелии [54] О понятии «кентавры» в античном мире см. в книге Гладкий В.Д. Древний мир: Энциклопедический словарь, том 1. М., 1998. С. 324.
. Такое отправное понимание, складывающееся в надежную и необходимую для восприятия последующего сообщения пресуппозицию, казалось бы, в целом не противоречит поэтическому творчеству поэта: у Бродского имеется немало текстов, так или иначе использующих античную атрибутику, тематику, героику и часто вводящих соответствующую им лексику уже в заглавие (см., например, «К Ликомеду, на Скирос» 1967 г., «Подсвечник» 1968 г., «Дидона и Эней» 1969 г., «Одиссей Телемаку» 1972 г., «К Урании» 1981 г., «Вертумн» 1990 г. и др.). Помимо этого, Epitaph for a Centaur может считаться заглавием жанровым и тем самым относить текст к группе внешне подобных произведений с иными антично-жанровыми заглавиями — например, «Элегиям», но также и к «Посланиям», «Письмам», ср. «Письма римскому другу (из Марциала)», и т. д.
В то же время заслуживает внимания и тот факт, что русских «эпитафий» у Бродского нет (при том что есть стихи «на смерть»). Более того, даже сама лексема «эпитафия» зафиксирована нами только в одном русском стихотворном тексте поэта, в его ранней вещи «Камни на земле» (1959), да и то в сочетании с предлогом, передающим значение отсутствия: «простые камни — камни без эпитафий». В английском же поэтическом творчестве epitaph, по нашим наблюдениям, встречается исключительно в шуточных стихах (Epitaph to a Tyrant и Epitaph for a Tyrant, а также в знаменитом двустишии «Sir, you are tough and I am tough. / But who will write who's epitaph?» из Shorts).
Но при дальнейшем восприятии стихотворения Epitaph for a Centaur выясняется, что античный топос заглавия не подкреплен содержанием собственно текста. Скорее, он носит характер общеисторического (внеисторического) и общекультурного условного знака, указывающего на необходимость поиска смыслов, не явленных эксплицитно, но настойчиво выводящих рефлексию на иной, более высокий, универсальный уровень и опирающихся, помимо прочего, на реалии современной жизни. Такой путь, впрочем, подготовлен содержанием текстов четырех предыдущих англоязычных Centaurs, которые можно условно, с учетом доминирующих в них тематик, обозначить так: I — «футуристический»; II — «любовно-лирический»; III — «лингвистический»; IV — «милитаристический» [55] Что, в частности, не противоречит их толкованию, данному в книге Ахапкин Д. Иосиф Бродский после России. Комментарии к стихам И. Бродского (1972–1995). СПб: «Звезда», 2009. С. 98–99.
.
Скрытой семантической доминантой заглавия Epitaph for a Centaur, по-видимому, следует считать идею амбивалентности, или, еще точнее, амбивалентной личности субъекта-протагониста [56] Об амбивалентной личности как феномене социальной психологии см: Михеева И.М. Амбивалентность личности: Морально-психологический аспект. М., МГПУ, 2000. Отдельно об амбивалентной личности с лингвистической точки зрения см.: Котова Н.С. Представление амбивалентной языковой личности в лексической и грамматической подсистемах русского языка. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2008.
, завершившего полный цикл своего земного существования. Действительно, «кентаврическая» природа двойственна: кентавр сочетает в себе внешность и качества животного и человека, и чего в нем больше — пока (до конца стихотворения) неясно. Кентавр иной, нежели остальные жители земли, и это отдаляет его от них, заставляет страдать от неразгаданной тайны «нестандартного» рождения и, как результат, бытия.
Теперь обратим внимание на незнаменательные слова в составе заглавия. Грамматически допустимым в назывном предложении подобного типа является употребление for или to: значения обоих предлогов соотносятся с объектным значением дательного падежа в русском языке: «Эпитафия кентавру». Однако авторское предпочтение отдано предлогу назначения и цели for («для»). Это создает некоторое смысловое противоречие: в заключительной части стихотворения (строка 15) ясно сказано, что кентавр умер, он мертв — отсюда, кстати, и жанр эпитафии. Но предлог for в заглавии вполне может свидетельствовать и об акте подношения стихотворения в виде дара или выполненного «заказа». И тут уместно напомнить, что в литературе нового времени эпитафия «может иметь условный характер, т. е. быть адресованной к несуществующей могиле мнимого покойника» [57] См. Словарь литературоведческих терминов. Редакторы-составители Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. М., 1974. С. 469; Baldick С The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford, New York, Oxford University Press, 1990. P. 73.
.
На мысль об условности объекта эпитафии наводит и неопределенный артикль a, свидетельствующий о том, что речь ведется (пойдет) не о ком-то конкретном, но о некоем, любом, возможном или вероятном (даже в будущем?) лице, метафоризированном в облике кентавра. И тогда уже из заглавия выводима еще одна фигура автора-повествователя истории кентавра, тщательно маскируемая, скрываемая, но все же очевидная по ряду признаков, которые заключает в себе собственно текст стихотворения. Для нас же присутствие в тексте авторского «я», манифестированного через его голос, существенно прежде всего для верной трактовки ключевого образа кентавра. Итак, обратимся к рассмотрению 16 строк, составляющих «тело текста». При этом особое внимание уделим лексике, так или иначе несущей в своей семантической структуре идею действия. Естественно, прежде всего это будут глаголы ввиду их особой функции в любом повествовании: «В художественной речи Г. (глагол. — С. Н.) используется в простых и сложных повествовательных предложениях для создания постепенно формирующегося зрительного образа. <���…> Активную роль глагол играет в повествовании, где он обозначает действие. В описании при помощи глагола изображается состояние предмета» [58] Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Назрань, 2005. С. 58–59.
. В рассматриваемом нами поэтическом тексте особое место принадлежит глаголам речи (говорения): ведь именно голос, слово, речь, даже в самом неясном, невнятном своем виде, в виде бормотания, — во всем творчестве Бродского символизируют не только продолжение жизни, но ее оправдание.
Интервал:
Закладка: