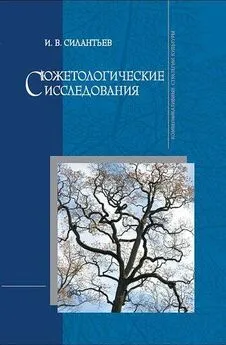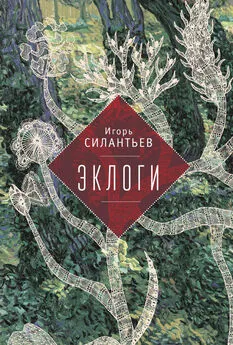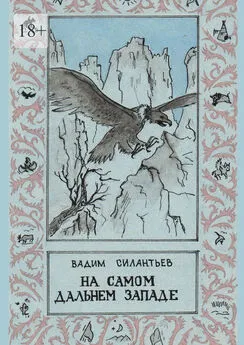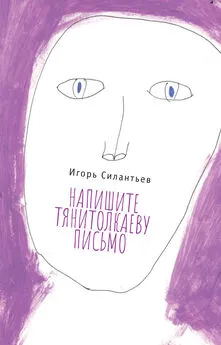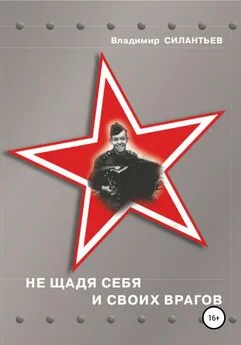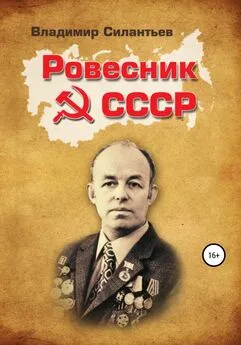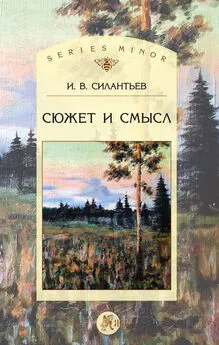Игорь Силантьев - Сюжетологические исследования
- Название:Сюжетологические исследования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0362-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Силантьев - Сюжетологические исследования краткое содержание
В книге на основе сюжетологического подхода рассматриваются категории мотива, сюжета и жанра в их типологических отношениях и историко-генетических взаимосвязях в русской литературе.
Сюжетологические исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В мире круга земного,
Настоящего дня,
Молодого, былого
Нет давно и меня!
И вместе с тем этот мотив, как мы подчеркивали, преодолевается мотивом тождества:
Не плита, не Распятье —
Предо мной до сих пор
Институтское платье
И сияющий взор.
И самое кладбище в семантическом поле мотива тождества обращается «царством радостных грез».
О радость красок!.. Мотивы тождества и обновления как постоянного возвращения к тождеству задают движение смысла и темы в этом стихотворении: «О радость красок! Снова, снова / Лазурь сквозь яркий желтый сад / Горит…» (1; 445). [46]Заключительные строки стихотворения как нельзя лучше демонстрируют взаимодействие данных мотивов, выраженных в лирической модальности предвосхищаемого.
…Нет, знаю.
Нет, верю, Господи, что Ты
Вернешь к потерянному раю
Мои томленья и мечты!
Мы рядом шли … Мотив обновления задает основной вектор развития лирической событийности в этом стихотворении: герои его находятся в состоянии рождающейся влюбленности («Мы рядом шли, но на меня / Уже взглянуть ты не решалась»; «Уже полураскрытых уст / Я избегал касаться взглядом») (1; 447). И тема «пустоты», незаполненности – которая вот-вот заполнится любовью – характерно оттеняет игру данного мотива:
Но был еще блаженно пуст
Тот дивный мир, где шли мы рядом.
Белые круглятся облака… В этом стихотворении на первый план снова выходит мотив тождества, который лежит в основе лирических событий воспоминания и, возможно, невольного сравнения лирическим субъектом образов пришедшего воспоминания и образов окружающего мира.
Мы сели у печки в прихожей… Это стихотворение проникнуто мотивом редукции, задающим все возможные линии лирического действия: огонь «угасший», дом «заброшенный», сторона «глухая», прихожая в доме «холодна» и «темна», сумерки «могильно синеют» (1; 448). Этот ряд всеобщего убывания вплоть до несуществования замыкают финальные строки, в которых мотив редукции охватывает и состояние самого лирического субъекта:
И в сердце моем так могильно,
Как мерзлое это окно.
Этой краткой жизни вечным измененьем … Снова на фоне темы «вечных изменений» звучит мотив тождества, в данном случае – тождества поэта самому себе, правда, в несколько снятом виде:
Будущим поэтам, для меня безвестным,
Бог оставит тайну – память обо мне:
Стану их мечтами, стану бестелесным,
Смерти недоступным, – призраком чудесным
В этом парке алом, в этой тишине.
Звезда дрожит среди вселенной… В своей мотивике это стихотворение, очевидно, соотнесено с предыдущим, однако здесь мотив тождества (звезда – душа поэта) выступает, скорее, отправной точкой для главенствующего мотива преодоления – в данном случае, преодоления земной бренности и произвольности существования:
Звездой пылающей, потиром
Земных скорбей, небесных звезд
Зачем, о Господи, над миром
Ты бытие мое вознес?
В дачном кресле, ночью, на балконе … Это стихотворение, в свою очередь, продолжает перекличку двух предыдущих, только здесь происходит обратное движении мотивики: от мотива преодоления (сомнения, тревоги, даже страха перед неизвестностью) к мотиву тождества – в данном случае, тождества внутреннего мира лирического субъекта, возвышенного верой и стремлением к любви, – абсолютному началу веры и любви: «То, что есть в тебе, ведь существует» (8; 7).
И цветы, и шмели, и трава, и колосья… В этом стихотворении на фоне темы блудного сына главенствует мотив приобщения – к Богу, к целому, и в то же время к изначальному, манифестированному образом «полевых путей меж колосьев и трав» (8; 8). Мотив приобщения, конечно же, семантически близок мотиву тождества.
Потерянный рай. Тема блудного сына и здесь является центральной, однако мотив приобщения сменяется в этом стихотворении мотивами утраты и отторжения, контрастно звучащими на фоне пышных, выписанных с учетом фольклорной поэтики образов рая.
Радуга. Мотив тождества в этом стихотворении сопряжен с мотивом обретенного и, в итоге, выраженного совершенства:
…Лишь избранный Творцом,
Исполненный Господней благодати, —
Как радуга, что блещет лишь в закате, —
Зажжется пред концом.
Зачем пленяет старая могила… Мотив сожаления в этом стихотворении переплетается с мотивом итога, выраженном лирическим действием в сослагательной модальности: «…Как будто все, что было и прошло, / Уже познало радость воскресенья…» (8; 13).
Вход в Иерусалим. Мотив горестного итога и здесь составляет основу лирического действия, также представленного в модальности назревающего события:
…Преклоняя свой горестный взор,
Ты вступаешь на кротком осляти
В роковые врата – на позор,
На проклятье!
Пантера. В этом стихотворении, как нам представляется, нет динамики лирического действия, но есть динамика развития темы – собственно темы изящного и опасного животного, пантеры, при этом данная тема эксплицирована в самом названии произведения. Ведущая тема стихотворения метафорически оттенена темой алмазных копей, ассоциативно вызывающей, в свою очередь, образы южного зноя, возможно, африканского, царственности, связанной с темой алмазов, и солнца – ключевого образа текста. В целом, как представляется, стихотворение в развитии своей образности опирается не на мотивную, а на тематическую основу.
Дочь. Основным мотивом стихотворения выступает мотив отторжения («… Потом / Она уж с ним, – как страшен он!») и опустошения («… мой опустевший дом») (8; 21), что выражено в детализированных сценах сна героя. Данному мотиву противопоставлен мотив, известный нам по рассмотренным текстам, – это, как мы его называли, мотив частичной компенсации прежде редуцированного качества, признака:
И чувством молодости странной,
Как будто после похорон,
Кончается мой сон туманный.
«Опять холодные седые небеса … » В этом стихотворении, построенном на интересном приеме автоцитации и последующем эффекте метатекстуальности, главенствует знакомый нам по многим лирическим произведениям Бунина мотив обновления.
Ночь. В стихотворении уникальным образом сочетаются мотив абсолютного тождества и тема абсолютного одиночества:
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только он мою
Мертвую печаль…
3. Мотивно-тематический анализ избранных прозаических произведений И. А. Бунина
Вводные замечания. Мы не включили в круг нашего анализа цикл «Темные аллеи» и «Жизнь Арсеньева». «Темные аллеи» требую отдельного и сплошного мотивно-тематического изучения, в соотнесении со всей системой бунинского творчества. Наша же небольшая работа, как мы уже оговаривали выше, носит не более чем поисковый характер, преимущественно в области мотивного анализа, и в ее скромные рамки невозможно включить такой развернутый материал. Это неизбежно перевело бы работу из плоскости изучения теоретических оснований анализа лирического мотива в плоскость академического буниноведения, а мы такую задачу не ставили. То же, и в еще большей степени, относится к роману «Жизнь Арсеньева». Исследование лирических тем и мотивов в этом произведении неотделимо от анализа его поэтики в целом, что также является другой и отдельной задачей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: