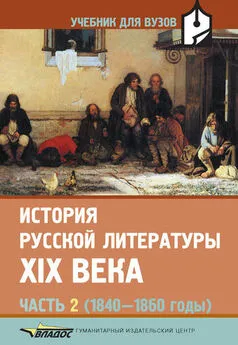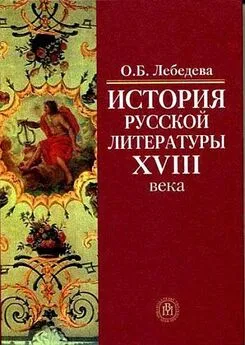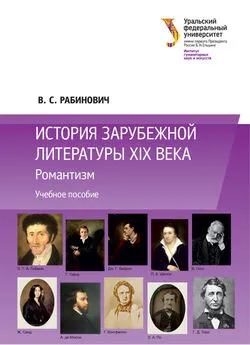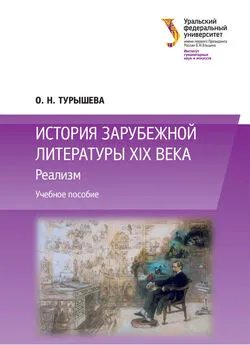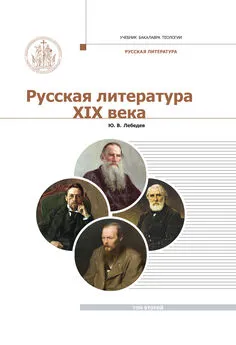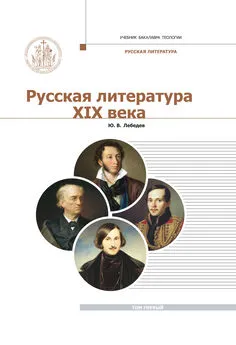Ю. Лебедев. - История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы
- Название:История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Просвещение
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-09-012211-3(1), ISBN 5-09-015045-1(общ.)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ю. Лебедев. - История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы краткое содержание
Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032900 (050301) – «русский язык и литература». В учебнике даются современные подходы в освещении основных этапов историко-литературного процесса.
В соответствии с новыми данными филологической науки пересматривается традиционная периодизация историко-литературного развития, расширяется и уточняется представление о ренессансной природе русского реализма.
История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вяземский дает картину русского санного пути, очаровавшую Пушкина, подхватившего ее при описании зимнего пути Евгения Онегина:
Как вьюга легкая, их окриленный бег
Браздами ровными прорезывает снег
И, ярким облаком с земли его взвевая,
Сребристой пылию окидывает их.
Эта тема растет и развивается в поэзии Вяземского и далее в стихах «Зимние карикатуры (Отрывки из журнала зимней поездки в степных губерниях)» (1828), «Дорожная дума» (1830), «Еще тройка» (1834), ставшая популярным романсом, «Еще дорожная дума» (1841), «Масленица на чужой стороне» (1853) и др. Вяземский открывает прелесть в безбрежном покое русских снежных равнин, ощущая связь с ними раздолья русской души, внешне неброской, но внутренне глубокой.
«Провозглашение Вяземским права на индивидуальность мысли определило его место в романтическом движении, – отмечает И. М. Семенко. – Выйдя из круга карамзинских понятий, Вяземский нашел свой путь к романтизму. В отличие от лирического героя Давыдова, образ автора в поэзии Вяземского сугубо интеллектуален. При этом острота интеллекта в стихах Вяземского, так же как храбрость у Давыдова, представляется свойством натуры. Не „всеобщая“ истина, постигаемая рассудком, а неуемный интеллектуальный темперамент личности – залог возникновения новой мысли».
Языков Николай Михайлович (1803-1846).
«Из всех поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков, – писал Н. В. Гоголь. – С появлением первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своей властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный. Все, что выражает силу молодости, не расслабленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть ото всего, к чему он ни прикоснется. ‹…› Все, что вызывает в юноше отвагу, – море, волны, буря, пиры и сдвинутые чаши, братский союз на дело, твердая как кремень вера в будущее, готовность ратовать за отчизну, – выражается у него с силой неестественной. Когда появились его стихи отдельной книгой, Пушкин сказал с досадой: «Зачем он назвал их: „Стихотворения Языкова!“ Их бы следовало назвать просто: „хмель“! Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного; тут потребно буйство сил». Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию: „Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их“). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы: первая, где поэт, обращаясь к России, которую уже было признали бессильною и немощной, взывает так:
Чу! труба продребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомяни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!
Созови от стран далеких
Ты своих богатырей,
степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей!
И потом строфа, где описывается неслыханное самопожертвование, – предать огню собственную столицу со всем, что ни есть в ней священного для всей земли:
Пламень в небо упирая,
Лют пожар в Москве ревет.
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!
Громче буря истребленья,
Крепче смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламя очищенья,
Это Фениксов костер!
У кого не брызнут слезы после таких строф? Стихи его точно разымчивый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентские пирушки не из бражничества и пьянства, но от радости, что есть мочь в руке и поприще впереди, что понесутся они, студенты,
На благородное служенье
Во славу чести и добра».
«Пафос поэзии Языкова, – утверждает исследователь поэтов пушкинской поры В. И. Коровин, – пафос романтической свободы личности, которая верила в достижение этой свободы, а потому радостно и даже порой бездумно, всем существом принимала жизнь. Языков радовался жизни, ее кипению, ее безграничным и многообразным проявлениям не потому, что такой взгляд был обусловлен исключительно его политическими, философскими мотивами, а безоглядно.
Он не анализировал, не пытался понять и выразить в стихах внутренние причины своего жизнелюбивого миросозерцания. В его лирике непосредственно заговорила природа человека как свободного и суверенного существа. И это чувство свободы в первую очередь касалось его, Языкова, личности и ближайшего к нему окружения – родных, друзей, женщин».
Однако истоки такой свободы не только в кризисе феодальной системы, как полагает исследователь, но и во взлете самосознания юной нации, одержавшей победу в Отечественной войне. На волне живоносного единства русских людей перед лицом общей опасности как раз и возникло это чувство абсолютной свободы и легкого дыхания. За всем личным, интимным, бытовым стоял у Языкова величественный образ богатырской России, частью которой он себя ощущал и как человек, и как поэт-студент, и как поэт-историк.
Студенческие песни Языкова – это ликующий гимн свободной жизни с ее чувственными радостями, с богатырским размахом чувств, молодостью, здоровьем. В ряду этих вечных, простых и неразложимых ценностей жизни оказывается у поэта-студента и вольнодумство. Типичное для лирики декабристов чувство здесь очеловечивается, теряя схоластический налет одической торжественности, в чем-то приземляясь, но зато и обретая живое дыхание:
Наш Август смотрит сентябрем -
Нам до него какое дело!
Мы пьем, пируем и поем
Беспечно, радостно и смело.
Наш Август смотрит сентябрем -
Нам до него какое дело?
Здесь нет ни скиптра, ни оков,
Мы все равны, мы все свободны,
Наш ум – не раб чужих умов,
И чувства наши благородны.
Здесь нет ни скиптра, ни оков,
Мы все равны, мы все свободны.
Приди сюда хоть русский царь,
Мы от бокалов не привстанем.
Хоть громом Бог в наш стол ударь,
Мы пировать не перестанем.
Приди сюда хоть русский царь,
Мы от бокалов не привстанем.
«Главной заслугой Языкова в области торжественного стиля, – отмечает К. К. Бухмейёр, – явился живой поэтический восторг, который удалось ему создать взамен величавого парения поэзии классицизма XVIII века, и тяжеловесной риторики, сковывающей мысль и чувство гражданских поэтов начала XIX века.
Механизм, секрет этого типично языковского восторга, заставлявшего Гоголя утверждать, что Языков рожден для „дифирамба и гимна“, заключается прежде всего в сочетании стремительного, как бы летящего стиха с особым строением стихотворного периода, при решительном обновлении поэтического словаря. ‹…› Пропуски ритмических ударений на первой и третьей стопе четырехстопного ямба в периоде, передающем непрерывное эмоциональное нарастание, создают впечатление того страстного поэтического „захлеба“, который особенно пленяет в Языкове». А «доведенное до кульминационной точки эмоциональное нарастание разрешается у Языкова, как правило, эффектной афористической формулой, представляющей собой смысловой центр тяжести стихотворного периода. Чаще всего эти формулы определенным образом организованы в звуковом отношении, по-державински громкозвучны. Вот, например, классический период Языкова из песни „Баян к русскому воину при Димитрии Донском“ (1823):
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: