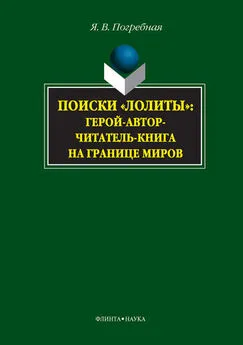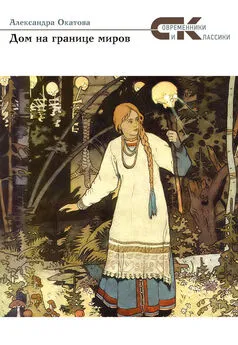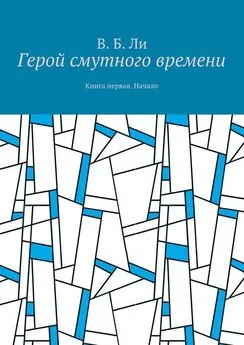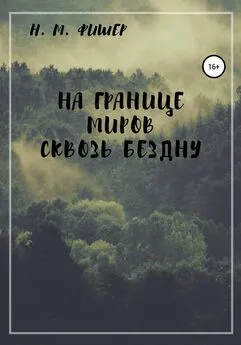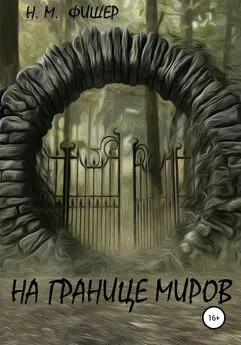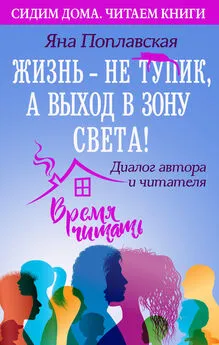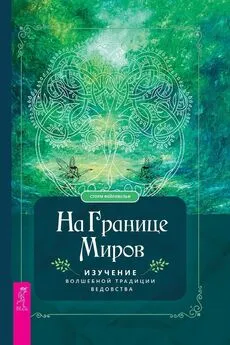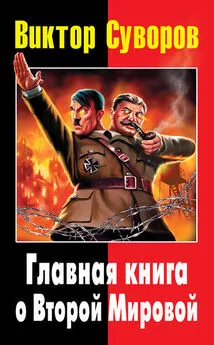Яна Погребная - Поиски «Лолиты»: герой-автор-читатель-книга на границе миров
- Название:Поиски «Лолиты»: герой-автор-читатель-книга на границе миров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Флинта
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-1136-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яна Погребная - Поиски «Лолиты»: герой-автор-читатель-книга на границе миров краткое содержание
Монография посвящена исследованию принципов и приемов организации пространства в романе В.В. Набокова «Лолита». Идентификация пространственной модели мира «Лолиты» осуществляется в нескольких аспектах: маркированию пространства по принципу соответствия онтологии героя категории литературного рода; функциональной манифестации героев в роли палачей и/или жертв; космизации пространства «Лолиты» путем мифологического «опространстливания» вечности.
Монография предназначена как для студентов и аспирантов филологических сециальностей, так и для широкого круга читателей.
Поиски «Лолиты»: герой-автор-читатель-книга на границе миров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ван в «Текстуре времени» определяет прошлое по впечатлениям звуковым, осязательным, обонятельным, вкусовым. Приемы расцвечивания и озвучивания И. Паперно выделяет как доминирующие в создании художественного космоса романа «Дар» /160,с.501–507/. А. Бергсон, давая определение памяти и погружению в прошлое, указывает: «В действительности память – это вовсе не регрессивное движение от настоящего к прошлому, а наоборот, прогрессивное движение от прошлого к настоящему» /24,с.310/. Прошлое реставрируется, оживляется в настоящем, благодаря случайному наслоению впечатлений, сцеплению предметов или внутреннему состоянию творчества, на период которого ход реального времени отменяется или приостанавливается для творца в момент творения: его внутренние часы отсчитывают иное время, не совпадающее с линейным. Погружение в прошлое, как самостоятельную реальность памяти, Бергсон описывает как процесс, охватывающий несколько этапов: «Первым делом мы помещаем себя именно в прошлое. Мы отправляемся от некоторого «виртуального состояния», которое мало-помалу проводим через ряд различных срезов сознания вплоть до того конечного уровня, где оно материализуется в актуальном восприятии, то есть становится состоянием настоящим и действующим; другими словами, мы доводим его до того крайнего среза своего сознания, в котором фигурирует наше тело. Это виртуальное состояние и есть чистое воспоминание» /24,с.310/
В начале романа «Дар» Федор Константинович Годунов-Чердынцев, перечитывая за воображаемого рецензента свой первый поэтический сборник, снова восстанавливает во всей полноте и подробности те места и события, которые в редуцированном поэзией виде нашли отражение в стихах. Комментарий точнее и подробнее, чем стихи воссоздает мир детства героя. Стихотворный образ выступает только как часть, хотя, несомненно, часть – самая существенная, общей картины, хранящейся в памяти, прозаическое слово также не способно передать ее во всей полноте. Воскресение во всей полноте миров, редуцированных стихами,
Федор сравнивает со взглядом возвратившегося путешественника, который «видит в глазах у сироты не только улыбку ее матери, которую в юности знал, но еще аллею с желтым просветом в конце, и карий лист на скамейке, и все, все» /151,т.3,с. 11/. Полнота увиденной путешественником картины скрыта в фигуре умолчания – удвоенном «все», которое вмещает в себя целый мир, целую эпоху из прошлой жизни героя, не ограничиваясь одним конкретным, зримым образом. Мир воспоминания процессуален, динамичен, поэтому живописная зримость нуждается в динамическом словесном дополнении. А. Бергсон это переключение времен описывает таким образом: «… прошлое, актуализируясь в непрерывной прогрессии, стремится отвоевать свое утраченное влияние» /24,с.242/.
Погружение в мир сборника, связанное с приостановкой для героя течения внешнего времени (стрелки часов Годунова-Чердынцева «с недавних пор почему-то пошаливали, вдруг принимаясь двигаться против времени» /151,т.3,с.27/), перемещение из реальности настоящей в реальность детства, прошлого, теперь ставшую реальностью поэтической, в романе показано буквально: «Сборник открывался стихотворением «Пропавший мяч», – и начинал накрапывать дождик. Аллея на ночь возвратилась из парка, и выход затянулся мглой» /151,т.3,с. 11/. Дождь начался между тем и в мире настоящего и прозаического, но его герой заметит, только покинув мир сборника и закрыв книгу: «…пока он мечтал над своими стихами, шел по-видимому дождь» /151,т.3,с.27/. Внутренний мир сборника «Стихи» точно локализован в пространстве (Петербург, Лешино) и во времени («По четвергам старик приходит…»). Неточность измерения времени в мире внешнем (часы Федора, идущие «против времени») оттеняется правильностью организации хронотопа в мире вымышленном, извлеченном из памяти создателя и продолжающим развиваться в ее пределах. Часы Федора, оглядывающегося назад, ткущего из реальности памяти новую поэтическую реальность, ход времени оборачивают вспять, «двигаясь против времени». Так конкретная будничная деталь из реальности внешней (отстающие часы) обретает статус символа, материально и точно воссоздавая особенности течения времени для художника, живущего одновременно и в мире памяти, творчества и в мире внешнем, организованным линейным ходом времени.
Движение часов Федора против времени – буквализация метафоры, осуществленной в образе материально-конкретном, зримом, обнажение приема «исторической инверсии». В. По дорога, характеризуя опыт автобиографического письма на примере М. Пруста, подчеркивает, что «все время, насколько оно может быть отражено в языке, поступает в распоряжение автобиографического субъекта» /102,с.338/. В результате сам «акт автобиографического письма оказывается борьбой против времени внутри самого времени», а «событием оказывается не чистое переживание времени, а то, что переживается в пространстве языка» /102,с.338–339/. Время далекого прошлого, сосредоточенное во впечатлениях раннего детства мыслится Набоковым пространственно в категориях «начала пути», «подножия», «глубины». В романе «Bend Sinister» упоминается в высшей степени характерная для онтологии и метафизики В. Набокова шутка профессора Круга, прочитавшего однажды «задом наперед… лекцию о пространстве, желая узнать, прореагирует ли хоть один из студентов. Никто не прореагировал…» /152,т. 1,с.224/. Данное событие не столько демонстрирует невежественность студентов, сколько обнажает феномен обратимости времени-пространства в художественном космосе В. Набокова.
Однако обратимость времени, возможность осмысления его в категориях пространства возможна только при условии единства и непрерывности накопления жизненных впечатлений, от раннего детства до определенной точки настоящего, проактуализированной в романном повествовании.
Отчужденность набоковского героя от детства означает для него необратимость времени, невозможность возвращения в былое, локализованное в точке пространства или сохраненное в памяти. Долорес Гейз только однажды вспоминает свое «догумбертовское детство», то есть возвращается к тем изначальным впечатлениям, причастность к которым сообщает бытию непрерывность и возможность эстетизации. «Когда я была совсем маленькая, – неожиданно добавила она, указывая на одометр, – я была уверена, что нули остановятся и превратятся опять в девятки, если мама согласится дать задний ход», – говорит Лолита /152,т.2,с.269/. От проницательного Гумберта не укрылась уникальность замечания Лолиты, которая «впервые, кажется… так непосредственно припоминала свое догумбертовское детство» /152,т.2,с.269/. Вместе с тем, «задний ход» в жизни Лолиты невозможен не по законам физики, а по законам набоковской эстетики: героиня лишена детства в воспоминаниях. Поэтому Гумберт, обвиняющий себя в конце романа в том, что он лишил Лолиту детства, фактически отнимает то, чего Лолита никогда не имела – поэзии детства. Этим объясняется и последнее обещание Гумберта принести Лолите бессмертие, то есть возможность возвращения, через свою тюремную исповедь: «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это – единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита» /152,т.2,с.376/. Однако обещание Гумберта обращено к Лолите, им созданной, а не к реальной Долорес Гейз, позже – миссис Ричард Ф. Скиллер. Примечателен сам по себе тот факт, что Долорес даже не пыталась вернуться ни в Писки, город своего детства, ни в Рамздэль, в дом матери. Невозможность движения назад во времени, оборачивается в физической реальности невозможностью движения в связанное с былым пространство. Только единожды приведенное в романе воспоминание Лолиты о раннем детстве своим содержанием подчеркивает эту необратимость времени и невозможность обратимости пространства, как его прямого следствия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: