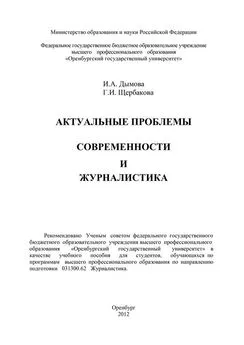Яна Погребная - Актуальные проблемы современной мифопоэтики
- Название:Актуальные проблемы современной мифопоэтики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Флинта
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-1135-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яна Погребная - Актуальные проблемы современной мифопоэтики краткое содержание
В пособии представлены развернутые планы лекций и их конспекты, а также материалы для подготовки к практическим занятиям со списками литературы. Материалы для подготовки к практическим занятиям представляют собой авторский пример трансформации репродуктивного знания в продуктивное применительно к решению конкретных исследовательских задач.
Для магистрантов, обучающихся по направлению 031000 – «Филология» по программе «Теория литературы».
Актуальные проблемы современной мифопоэтики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В мифе разные типы времени, соотносимые с разными персонажами выступают для них характеризующим качеством. А.М. Пятигорский указывает: «В «Пуранах» мы видим, что один день Брахмы равен 12 млн. годов Индры; 4320000000 годов человека и т. д., в то время как в буддийских источниках видим, что время смерти (точнее умирания) отличается от времени жизни, а время существования между смертью и новым рождением будет неопределенным с точки зрения времени жизни…» (Пятигорский, 1996.С.49), при этом исследователь объясняет различия в темпоральности различными состояниями человеческого разума, имплицированного соответственно в различных мифологических персонажах. В неомифологизме XX века разные персонажи наделяются разными темпоральными характеристиками: время затворника течет медленнее, чем время действующего или странствующего героя. В романе-мифе Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества» в каморке Мелькиадеса, где старый цыган сначала пишет историю рода Буэндиа, а затем располагается алихимическая лаборатория Хосе Аркадио, а позже ювелирная мастерская полковника Аурелиано, время останавливается, замедляется ход времени и для Ребекки, затворившейся после смерти мужа в своем доме так надолго, что никто уже не знает, жива ли она. В пьесе Ж.-П. Сартра «Затворники Альтоны» затворник Франц, избравший заточение формой существования после возвращения с фронта, продолжает переживать послевоенную разруху, в то время, как остальные персонажи пьесы существуют в процветающей Германии 50-х годов.
В позднем романе В. Набокова «Ада» главный герой Ван работает над книгой «Текстура времени», в которой прошлое определяется «как накопление ощущений, а не иссякание времени. прошлое – это постоянное накопление образов. Его легко наблюдать и слушать, испытывать и наугад пробовать на вкус, так что оно перестает обозначать правильное чередование связанных между собой событий» (Набоков, 1995. С. 516–517). Ван размышляет о том, «существовала ли когда-нибудь «примитивная» форма времени, в которой. Прошлое не отделялось еще достаточно отчетливо от Настоящего, так что тени и лики проглядывали сквозь все еще вялое, медлительное, личиночное «теперь»» (Набоков, 1995. С.510). Три лекции о трех типах времени Ван прочитал «у мистера Бергсона…в одном солидном университете» (Набоков, 1995. С.520). Набоковская концепция незавершенности прошлого, приводящая в итоге к мысли о том, что существует только один тип времени – минувшее, события которого переносятся в настоящее и будущее (М.М. Бахтин подводит этот феномен под определение «исторической инверсии», суть которой состоит в том, что в мифе и литературе «изображается, как уже бывшее в прошлом то, что на самом деле может быть осуществлено только в будущем, что, по существу, является целью, долженствованием, а отнюдь не действительностью прошлого» (Бахтин, 1995. С. 297–298), действительно созвучна теории памяти как виртуального состояния в философской системе А. Бергсона.
Ван в «Текстуре времени» определяет прошлое по впечатлениям звуковым, осязательным, обонятельным, вкусовым. Приемы расцвечивания и озвучивания И. Паперно выделяет как доминирующие в создании художественного космоса романа «Дар» (Паперно, 1997. С. 501–507). А. Бергсон, давая определение памяти и погружению в прошлое, указывает: «В действительности память – это вовсе не регрессивное движение от настоящего к прошлому, а наоборот, прогрессивное движение от прошлого к настоящему» (Бергсон, 1992. С.310). Прошлое реставрируется, оживляется в настоящем, благодаря случайному наслоению впечатлений, сцеплению предметов или внутреннему состоянию творчества, на период которого ход реального времени отменяется или приостанавливается для творца в момент творения: его внутренние часы отсчитывают иное время, не совпадающее с линейным. Погружение в прошлое, как самостоятельную реальность памяти, Бергсон описывает как процесс, охватывающий несколько этапов: «Первым делом мы помещаем себя именно в прошлое. Мы отправляемся от некоторого «виртуального состояния», которое мало-помалу проводим через ряд различных срезов сознания вплоть до того конечного уровня, где оно материализуется в актуальном восприятии, то есть становится состоянием настоящим и действующим; другими словами, мы доводим его до того крайнего среза своего сознания, в котором фигурирует наше тело. Это виртуальное состояние и есть чистое воспоминание» (Бергсон, 1992. С.342).
Не все, увиденное в мире, способно сохранить воспоминание, подарив предмету новое бытие в новой реальности, оно тем самым обеспечивает возможность материального возвращения из мира памяти и прошлого в момент настоящего. Переезжая к Щеголевым, Годунов-Чердынцев («Дар») прощается с комнатой пансиона и размышляет о том, как расставаясь с чужим миром, «в лучшем уголке души мы чувствуем жалость к вещам, которых собой не оживили, едва замечали, и вот покидаем навеки. Этот мертвый уже инвентарь не воскреснет потом в памяти.» (Набоков, 1990. Т.3.С.11). П.Кузнецов, размышляя об особенностях гносеологии Набокова, сравнивает дар писателя с уникальной способностью героя из новеллы Х.-Л. Борхеса «Фунес, чудо памяти» помнить прошлое во всей полноте отдельных подробностей (Кузнецов, 1992.С.244). Но герой Борхеса тонул в детальности, дробной полноте своих воспоминаний, чтобы вспомнить один эпизод прожитого дня, он вынужден был полностью переживать его заново. Феноменальная память Фунеса не умела выделить единичной детали, значимой на фоне бесконечного множества прочих подробностей. Набоков напротив выделяет образ, деталь, подробность вещественного мира, сугубо индивидуальную, единичную, принадлежащую только ему.
Эта стратегия сопряжения или выделения доминирующей точки зрения приводит к актуализации в космосе Набокова разных типов времени, соотносимых с ритмами жизни конкретных героев. Время внутреннее не совпадает с ходом времени внешнего, оно наделено способностью обратного хода, обращенного в мир прошлого и памяти, оно наделено иным темпоральным ритмом. В романе «Дар» отец Федора, исчезнувший во время своей последней экспедиции, избирает для нее подходящее внутренне, но трагически несоответствующеее замыслу внешнее время: «То, что Константин Кириллович, в тревожнейшее время, когда крошились границы России и разъедалась ее внутренняя плоть, вдруг собрался покинуть семью года на два ради далекой научной экспедиции, большинству показалось дикой прихотью, чудовищной беззаботностью. До крайней минуты Федору мечталось, что отец все-таки возьмет его с собой. «В другое время взял бы,» – сказал он теперь, забыв, что для него-то время было всегда другим» (Набоков, 1990. Т.3.С.119). Любопытно, что герой, наблюдающий за самим собой, движется во времени с иной скоростью, чем остальные персонажи: зрительно-преобразующее восприятие действительности протяженнее во времени, соглядатай отстает от остальных персонажей. Смуров, случайно завладевший ключами от квартиры сестер, уехавших в театр, кружит по дому, стремясь через зримые детали, предметы и вещи, определить отношение Вани к себе самому. Неожиданно сестры возвращаются из театра. Смуров, притаившись, подслушивает их разговор, при этом недоумевая: «Неужели мое бесплотное порхание по комнатам продолжалось три часа? Там успели сыграть пьесу, а тут человек только пробежался через три комнаты. Ничего не было общего между моим временем и чужим» (Набоков, 1990. Т.2.С.325]. В. Руднев, воспроизводя концепцию времени Дж. Данна, подчеркивает, что введение фигуры Наблюдателя, наблюдающего за Наблюдателем 1, приводит к тому, что «время 1, за которым он наблюдает, становится пространственноподобным» (Руднев, 2000.С.30), в результате по нему можно передвигаться в прошлое, в будущее и обратно, причем, умножение фигур наблюдателей должно привести к бесконечному нарастанию временных изменений, и, таким образом, мировой универсум предстанет чем-то «вроде системы зеркал, отражающихся друг в друге» (Руднев, 2000.С.31). Именно к такой метафоре – «тысяч зеркал», отражающих его отсутствующий образ приходит в конце романа Смуров (Набоков, 1990. Т.2.С.344). Смуров предстает объектом наблюдения для самого себя, за ним наблюдают все персонажи романа и их образы Смуров тщательно выявляет и собирает, наконец, один из наблюдателей за Смуровым – Вайншток одержим манией преследования, всюду ища тайных советских агентов, помимо них за миром людей наблюдает мир духов, которых тот же Вайншток вызывает на спиритических сеансах. Согласно Дж. У. Данну, умножающаяся система Наблюдателей и принадлежащих им временных измерений бесконечна и может обрести предел только найдя Абсолютного Наблюдателя – Бога, который движется в абсолютном времени (Руднев, 2000. С.30). Для романа Набокова «Соглядатай» абсолютным Наблюдателем и демиургом выступает сам создатель романного мира – Владимир Набоков. Хотя ответ на вопрос об абсолютном Наблюдателе, казалось бы, найден, однако – сам Набоков – объект собственного и чужого наблюдения, участник сотворенного им и другими наблюдателями мира. Этой нетождественностью Наблюдателя самому себе вызвано его настойчивое художественное расщепление на героя и наблюдающего за ним автора, тоже выступающего героем созданного в романе мира. Моногерой мифа эквивалентен модели Вселенной, выступая синонимом ее полноты и многообразия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: