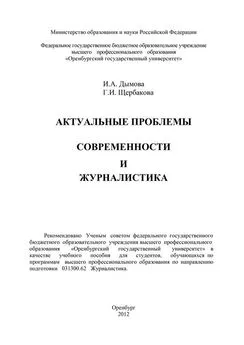Яна Погребная - Актуальные проблемы современной мифопоэтики
- Название:Актуальные проблемы современной мифопоэтики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Флинта
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-1135-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яна Погребная - Актуальные проблемы современной мифопоэтики краткое содержание
В пособии представлены развернутые планы лекций и их конспекты, а также материалы для подготовки к практическим занятиям со списками литературы. Материалы для подготовки к практическим занятиям представляют собой авторский пример трансформации репродуктивного знания в продуктивное применительно к решению конкретных исследовательских задач.
Для магистрантов, обучающихся по направлению 031000 – «Филология» по программе «Теория литературы».
Актуальные проблемы современной мифопоэтики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Безусловно, неомифологизм XX века, выступая новой редакцией мифологизма предшествующего столетия, продолжает способы освоения и интерпретации мифа, сложившиеся как в романтических теориях мифа и художественной практике романтиков, так и тенденцию к мифотворчеству, свойственную реалистическому роману XIX века. Но при этом неомифологизм, как и синхронически с ним существующие неореализм и неоромантизм, обретает в культурно-исторической ойкумене XX века ряд новых черт и качеств, которые и заставляют исследователей прибегать к приставке «нео». Н. Гришина указывает на сходство неромантизма и неомифологизма, обусловленное отчасти синхронностью их появления в культурном процессе начала XX века и общей обращенностью «внутрь» культуры, вещи, явления (Г. Гессе в статье «Романтизм и неоромантизм» (1900) подчеркивал, что неоромантизм учил «умению наблюдать, психологизму и языку» ( http://www.hesse.ru), определяя неоромантизм как инструмент художественного познания, этим качеством обладает и неомифологизм, манифестирующейся на уровне конкретного художественного приема) (Гришина, 2003.С.2). Сама расплывчатость определения неоромантизма, который не соответствует какой-либо единой эстетической программе или поэтической системе, а «относится ко всему комплексу умонастроений и художественных поисков, характерных для гуманитарной культуры рубежа 19–20 веков» (Большаков, Гуревич, Хохлов. С.157), дает основания для установления подобия неоромантизма и неомифологизма. Вместе с тем, Н. Гришина считает, что неомиф, в отличие от неоромантизма, развивал в первую очередь реалистическую традицию (Гришина, 2003.С.2–3). Такой же точки зрения придерживается М.И. Мещерякова, которая, сопоставляя неоромантизм и неомифологизм, подчеркивает, что «настоящее произведение неомифологизма всегда тесно связано с реальностью, внешне несколько измененной фантастическим допущением. Это тот же реализм, хотя жизнь в нем изображается не только в жизнеподобных формах, но и в других, не вполне жизненных» (Мещерякова, 2003.С.1). Однако манифестация мифологизма в начале XX века как неомифологизма продолжает не только и не столько реалистическую, но даже в большей степени традицию романтического мифотворчества, поэтому соотнесенностью с реализмом сущность неомифологизма как культурноисторического феномена не исчерпывается. Е. М. Мелетинский, анализируя особенности неомифологизма XX века, указывает на категориальное отличие ремифологизации культуры XX века от мифологизации предшествующего столетия: «Не только в творчестве Ф. Кафки, но и в мифологизме писателей, прямо обращающихся к традиционным мифам, обнаруживается переворачивание мифа, его хотя бы частичное превращение в антимиф» (Мелетинский, irex ff) А. Люсый, сопоставляя мифологизм и неомифологизм, приходит к выводу: «Если мифологизм…понимать как отправной способ мышления, позволяющий выявить в образе, символе или архетипе такое отношение ко времени, пространству и бытию, благодаря которому воссоздается картина мира и бытия, то неомифологизм (термин Е.М. Мелетинского) предстает как трансформация, метаморфоза или даже транспонирование мира, т. е. разыгрывание мира в другом месте и времени» (Люсый. http||ww/archipelag.ru/authors.С.6). Д.Е. Луконин, определяя неомифологизм как способ демиургического самоосуществления автора в творчестве В. Хлебникова, подчеркивает именно это качество трансляции знания, актуализируемое Хлебниковым в мифе: «Миф у Хлебникова – точка отсчета и точка опоры произвола автора, он дает возможность продуцирования нового знания, выражающего плюральность смыслов мира» (Луконин, 1995.С.135). Необходимо подчеркнуть, что в начале XXI века возникла новая тенденция, направленная на идентификацию неомифологизма как частного стилистического приема, свойственного для современного исторического романа с элементами фэнтези, так Е. Козлов, идентифицируя черты поэтики неомифологизма в петербургской прозе 90-ых годов, определяет последний как изящную стилизацию под мифы разных времен и народов (Козлов. 2001.С.302). В рецензии на романы М. и С. Дьяченко «Аэлита», «Пандем», «Странник» указывается, что в поэтике романов «переплетены элементы фэнтези, научной фантастики, неомифологизма и городского романа» (Дьяченко, 2004.С.302). Такое узкое понимание неомифологизма как стилистического приема отвечает двойственности состояния постмодернистской культуры, в которой исследовательская стратегия или принцип описания текста прочитывается одновременно и как метод, конструктивный прием создания того же текста. Эта двууровневость применения свойственная и самому постмодернизму непосредственно и объясняется, с одной стороны, тотальной текстуализацией действительности, которая порождается плетением текстов и раскодируется через идентификацию проактуализированных текстов, с другой, – декларируемым единством виртуального и материального миров. В современном словаре русской культуры «Константы» Ю. Степанов, давая характеристику категории «ментальные миры», указывает на единство в начальной точке развития миров ментальных и мира Вселенной, которая и сообщила обеим сущностям возможность единого процесса концептуального развития (Степанов, 2001.С.216).
З.Г. Минц обращается непосредственно к термину «неомифологизм», анализируя особенности поэтики русского символизма, и дает следующее определение понятию: ««Неомифологизм» XX в., как бы его не определять, – это культурный феномен, сложно соотнесенный с реалистическим наследием
XIX столетия (не случайна связь его, в первую очередь, с таким основным для прозы прошлого столетия жанром, как роман). Ориентация на архаическое сознание непременно соединяется в «неомифологических» текстах с проблематикой и структурой социального романа, повести и т. д., а зачастую – и с полемикой с ними» (Минц, 2004.С.60).
Неомифологизм как культурно-исторический феномен складывается в начале XX века, прежде всего, в творчестве русских символистов и представляет собой усложненную и обогащенную новыми художественными приемами интерпретацию мифологизма предшествующего столетия. З.Г. Минц указывает на преемственность неомифологизма символистов по отношению к реалистическому, в первую очередь, романному наследию XIX века (Минц, 2004.С.59–60). Согласно концепции З.Г. Минц, неомифологические тенденции в художественных исканиях русских символистов нашли выражение в создании «текстов-мифов», в первую очередь романа и повести. А.В. Чепкасов рассматривает неомифологизм как обобщающее качество всей художественной системы Д.С. Мережковского (Чепкасов, 1999.С. 4), а С.Д. Титаренко, идентифицирует неомифологизм в циклических формах, выступающих типической чертой русского символизма (Титаренок, 1996.С.6). Той же тенденцией к расширению художественного бытования феномена неомифологизма в начале XX века отмечена та концепция феномена, которая предлагается В.Н. Топоровым в предисловии к роману А.Р. Кондратьева «На берегах Ярыни», в которой исследователь представляет типологические разновидности неомифологизма в его художественной (от мифологической эрудиции до мифологического универсализма (Топоров, 1990.С. 19)) и этнической (русской – петербургской и украинской (Топоров, 1990.С.32)) редакциях. Собственно и З.Г. Минц, устанавливая генезис неомифологизма в русском символизме, подчеркивает, что сходные тенденции формирования и выражения содержания в «тексте-мифе» были свойственны и западноевропейским символизму и модернизму, в первую очередь Дж. Джойсу и Ф. Кафке (Минц, 2004.С.59). Необходимо отметить, что в редакции Джойса неомифологизм приобретает статус сопряжения современного и архаического текстов по принципу установления глобальной аналогии, в то время как неомифологизм Кафки находит выражение в создании индивидуальной мифологии, причем не в космогонической, как у У. Блейка, а в антропоцентрической форме. Таким образом, неомифологизм начала XX века представляется широким культурно-историческим феноменом, охватывающим целую стадию становления и развития современного искусства (на синэстезирующие тенденции неомифологизма в области музыки и изобразительного искусства указывал В.Н. Топоров (Топоров, 1990. С. 41–44)). Не прибегая непосредственно к термину «неомифологизм», М.Н. Эпштейн дает развернутое описание различий не только мифологического мышления XIX и
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: