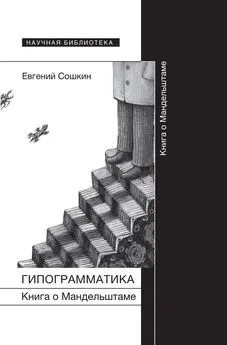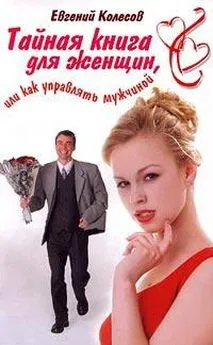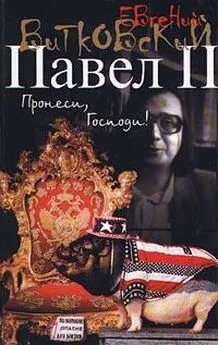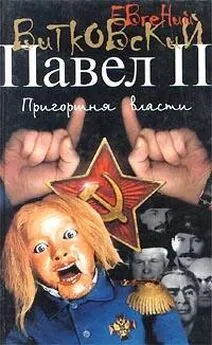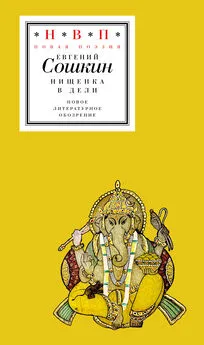Евгений Сошкин - Гипограмматика. Книга о Мандельштаме
- Название:Гипограмматика. Книга о Мандельштаме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0409-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Сошкин - Гипограмматика. Книга о Мандельштаме краткое содержание
В книге израильского филолога предложено целостное описание поэтики Осипа Мандельштама. В рамках этой задачи конкретизируются, развиваются и многократно тестируются теоретические положения, сформулированные адептами интертекстуального метода еще в семидесятых – восьмидесятых годах прошлого века, но до сей поры не нашедшие систематического применения. Итогом этой масштабной работы становится экспликация ряда метанарративов, которые, в свой черед, обнаруживают общую морфологическую основу, сохраняющуюся на всем протяжении зрелого творчества Мандельштама. Важной составляющей исследования является анализ мандельштамовской адресации к живым и мертвым современникам – поэтам и интеллектуалам, среди которых Вячеслав Иванов, Марина Цветаева, Софья Парнок, Андрей Белый, Виктор Шкловский. Книга снабжена подробными указателями.
Гипограмматика. Книга о Мандельштаме - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С неизменным великодушием меня снабжали недостающей литературой И. С. Кукуй, Ю. Левинг, В. С. Полилова и А. Л. Соболев. В ряде случаев с библиографией любезно помогли А. Ю. Балакин, И. Б. Делекторская, Е. О. Козюра, Е. Л. Куранда, С. Е. Ляпин, Р. фон Майдель, Л. В. Сафронова, Т. Н. Степанищева, Г. Г. Стребулаева, М. Г. Эйтингина.
Я признателен коллегам и друзьям, на разных этапах работы поддержавшим меня своими консультациями, советами, замечаниями и возражениями – от самых беглых до весьма обстоятельных: В. В. Брио, М. Я. Вайскопфу, И. И. Вайсману, А. А. Добрицыну, Г. Дюсембаевой, К. В. Елисееву, Г. – Д. Зингер, С. А. Карпухину (снабдившему меня подробной источниковедческой справкой относительно «Силеновой мудрости», гл. II), М. Л. Королю, И. В. Кукулину, Р. Г. Лейбову (по чьей инициативе в октябре 2007 года состоялось виртуальное обсуждение моей статьи – будущей гл. II), О. А. Лекманову, Н. Н. Мазур, П. М. Нерлеру, Н. Г. Охотину (общение с которым побудило меня к семантическому анализу русского пятистопного анапеста, гл. II), О. А. Проскурину, О. В. Репиной, Н. М. Сегал (Рудник), Д. М. Сегалу, С. В. Синельникову, Ф. Б. Успенскому, Ю. Л. Фрейдину, К. П. Юдину. Разумеется, эти благодарности не заменяют ссылок на моих собеседников в тех местах книги, где приводятся их самоценные наблюдения. Шестая глава обязана своим появлением Илане Гольдшмидт, подавшей идею привлечь к анализу шекспировский герб.
Важным финансовым подспорьем при работе над книгой в 2012–2013 годах послужила годичная докторантская стипендия израильского Межуниверситетского академического содружества в области русских и восточноевропейских исследований.
ВВЕДЕНИЕ
В 1967 г. появилась первая из цикла статей К. Ф. Тарановского о Мандельштаме. Этим было положено формальное начало современному изучению поэтики Мандельштама на основе метода, понятийной осью которого явилось противопоставление контекста и подтекста . Контекст Тарановский определил как «группу текстов, содержащих один и тот же или похожий образ», а подтекст – как «уже существующий текст, отраженный в последующем, новом тексте» [Тарановский 2000: 31]. Казалось бы, исходя из этого определения, контекст надлежит понимать как всю совокупность расхожих поэтических тропов, фигур и мотивов, диссоциированных с конкретными случаями их использования, а подтекст – как, потенциально, любой текст, отличный от данного. Однако на практике оба понятия трактовались в основном редуцированно: контекст фактически был ограничен корпусом мандельштамовских сочинений, а подтекстуальный фонд, соответственно, – остальным множеством литературных текстов [1].
Помимо разнородных источников разной степени конкретности – литературных, фольклорных, мифологических, – мобилизацию которых можно, вслед за Р. Д. Тименчиком [1973: 438–439], обозначить леви-стросовским понятием бриколажа, Мандельштам активно привлекает и «подтексты», относящиеся к внеязыковым знаковым системам, в частности, музыкальные, изобразительные, скульптурные, архитектурные, топографические, ландшафтные. Часть из них являются не только «текстами», но и физическими объектами, тем не менее даже их Мандельштам интерпретирует в качестве текстов par excellence, подлежащих цитации на общих основаниях [2]. Равным образом к подтекстообразующим приемам можно отнести некоторые поступки Мандельштама, отмеченные признаком цитатности, т. е. мотивированные историческим прецедентом [3]. С другой стороны, в подтекстуальном субстрате мандельштамовских сочинений присутствуют и несемиотические «подтексты» (можно назвать их референциальными) – не называемые прямо события, реалии, лица [4]. Впрочем, их импликация как раз наименее специфична для Мандельштама [5] – что верно и в отношении физических впечатлений как объектов метаописания средствами стихотворного ритма, звукописи и т. п. [6]Порой даже в тех случаях, когда, казалось бы, референция текста непреложна, оказывается, что подбор бытовых деталей произведен на основе подтекста, подложенного под реальность [7].
Потребность в вышеупомянутом сужении понятия контекста подсказывалась некоторыми характерными особенностями поэтики Мандельштама – рекуррентными символами, значение которых (в их специфическом мандельштамовском изводе) не может быть выведено из отдельно взятого текста и реконструируется на совокупной основе релевантных текстов; словообразовательными гнездами с устойчивой семантикой, не совпадающей с общеязыковой [8], и т. п., – словом, поэтической идиолектностью. Вместе с тем с самого начала был сделан вывод о совпадении контекста и подтекста в автоцитации [9], позволяющий определить контекст как такое подмножество в составе множества подтекстов, которое характеризуется не только синтагматическими, но и парадигматическими связями с текстом-консеквентом [10].
В координации с мандельштамовским образом слова , которое беспамятствует («Я слово позабыл, что я хотел сказать…», 1920), пребывая в трансе и неумолкаемо вторя себе самому, подобно кузнечику или цикаде (II, 160), механизм автоцитации концептуализировался теоретиками как, в сущности, процесс анамнезиса [11]. Но при этом оставалась недостаточно отрефлексированной двуаспектность явления автоцитации, совмещающей устойчивую контекстуальную семантику единицы поэтического языка и подтекстуальную мотивировку конкретного использования этой единицы, раскрываемой через конкретный прецедент. О. Ронен постарался разрешить эту двойственность, представив элементарный акт текстопорождения в виде выбора подтекста из корпуса контекстов: «В процессе расшифровки контекст <���…> можно отождествлять с парадигматическим планом, а выбираемое в нем поэтическое высказывание, обнаруживающее наибольшую общность с исследуемым <���…>, – с планом синтагматическим <���…>» [Ронен 2002: 20]. Но, думается, эта модель не может быть принята ввиду того, что «само понятие автоцитации определяется через отсутствие закономерной выводимости из инвариантов автора» [Жолковский 2011: 422]. В самом деле, подтекст, особенно литературный, не только не равен цитируемому сегменту, но и зачастую значим в силу другого, текстуально смежного или иным образом сопряженного с ним сегмента, который и мотивирует данное подтекстообразование [12]. Остальные контексты появлений цитируемого сегмента выполняют вторичную, регулятивную функцию, и хотя он проецирует эти контексты на свой собственный локальный контекст, это происходит лишь в конъюнкции с независимой подтекстуальной мотивировкой [13].
Н. Я. Берковский еще в 1930 г. проницательно увязал мандельштамовский принцип нормативизации окказиональных значений (который много позднее будет концептуализирован как поэтика контекста) с отсутствием сюжетной динамики в прозе Мандельштама:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: