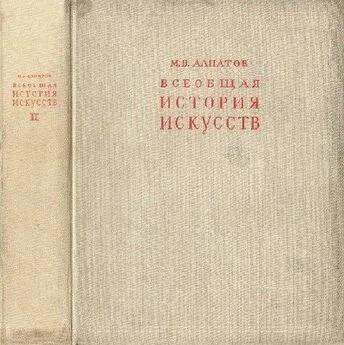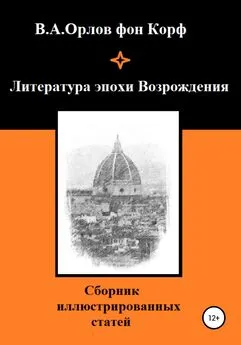Леонид Пинский - Реализм эпохи Возрождения
- Название:Реализм эпохи Возрождения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Москва, СПб.
- ISBN:978-5-98712-538-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Пинский - Реализм эпохи Возрождения краткое содержание
Выдающийся исследователь, признанный знаток европейской классики, Л. Е. Пинский (1906–1981) обнаруживает в этой книге присущие ему богатство и оригинальность мыслей, глубокое чувство формы и тонкий вкус.
Очерки, вошедшие в книгу, посвящены реализму эпохи Возрождения как этапу в истории реализма. Автор анализирует крупнейшие литературные памятники, проблемы, связанные с их оценкой (комическое у Рабле, историческое содержание трагедии Шекспира, значение донкихотской ситуации), выясняет общую природу реализма Возрождения, его основные темы. Вершины гуманизма XVI века – Эразм, Рабле, Шекспир, Сервантес – в наиболее характерной форме представляют реализм Возрождения во всем его историческом своеобразии.
Реализм эпохи Возрождения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как известно, коллизия (или конфликт) эпоса, классически повествовательного искусства, вся в действии. Перед нами объективное, пластическое противопоставление – два противостоящих героя, например Ахиллес и Гектор на поле брани, или два стана, два коллектива. В драме же коллизия дана в поступках, вытекающих из страстей и характеров. Собственно драматический (но не более трагедийный, чем у Шекспира) тип коллизии присущ испанской и в особенности французской трагедии, которые строятся на борьбе в душе героя двух противоположных начал (обычно долга и страсти). В испанской и отчасти французской трагедии раннего классицизма, школы Корнеля, такая коллизия противоборствующих душевных начал – важнейший момент основных сцен, разрешаемый в конце сцены и возобновляющийся в дальнейшем ходе действия. В зрелой трагедии французского классицизма (особенно начиная с Расина) это длящаяся , нарастающая, единая коллизия, проходящая через всю трагедию. В испанском и французском театре XVII века это еще классически чистый общественный долг перед родом, государством, обществом в официальном смысле – долг, который в романе и высокой драме буржуазной литературы представлялся бы искусственным. По именно поэтому в трагедии XVII века наряду с долгом выступает уже личная страсть, свидетельствуя о достаточно развитой частной жизни в абсолютистском государстве, как первом политическом образовании Нового времени, где уже возникает дуализм: «абстракция государства как такового» и «абстракция частной жизни» [105].
У Шекспира же, как и в эпосе, нет еще коллизии, исходящей из рождения подобной «абстрактной, рефлектированной противоположности» [106]. Ярче всего это отличие трагической коллизии у Шекспира выступает в «Антонии и Клеопатре».
Нигде по материалу Шекспир не подошел так близко к излюбленной в классицизме коллизии, как здесь, но именно в «Антонии и Клеопатре» особенно рельефно выступает интересующее нас отличие его трагического начала.
«Эта трагедия, – замечает Гёте, – тысячей языков говорит о том, что наслаждение и дело несовместимы» [107]. Личное и государственное здесь в непримиримом конфликте (Рим – и любовь, власть – и наслаждение, полководец – и женщина, Антоний – и Клеопатра).
Но как мы здесь далеки от обычной классицистской коллизии, которую герой русской трагедии XVIII века выражает восклицанием:
О, должность! о, любовь!
Прежде всего «должность» в драме Шекспира личная, честолюбивая (не долг в обычном смысле!), а затем и сама любовь в лице царицы Клеопатры на фоне Египта, страсть в демонической своей силе для Антония равна Риму и не воспринимается им как низшее начало. В душе Антония ни на одну минуту не возникает отмеченная выше борьба, и трагедия являет только ряд переходов от Клеопатры к Риму и наоборот, ряд «уходов», ряд объективных событий-поступков.
Поразительно это эпическое отсутствие у Шекспира интереса к изображению душевного раздвоения, борьбы между «личным» и «гражданским». Во второй сцене второго акта Антоний для успокоения Августа просит руки его сестры. Цезарь ему напоминает об оставленной в Александрии Клеопатре. Сам Антоний сейчас о ней не думает. Но вот прорицатель в следующей сцене предсказывает ему, что в столкновении с Цезарем он всегда будет побежден, – и Антоний, только что женившись на Октавии, решает:
Кудесник прав… вернусь в Египет.
Спокойствие купил я этим браком,
Но на Востоке радости мои.
Еще поразительнее, что важнейший момент действия, сыгравший катастрофическую роль в судьбе героя, – его бегство за Клеопатрой в битве при Акциуме, – совсем не показан. Зритель об этом узнает из краткого сообщения эпизодического лица. Представим себе подобную ситуацию в драме Лопе или Корнеля: она стала бы центральной сценой борьбы чести и влечения во всем ходе действия, кульминационной точкой коллизии. Здесь же этот эпизод опущен, ибо показывать Шекспиру нечего. Душевной коллизии Антоний в этот момент не знал, как он сам же объясняет Клеопатре в следующей сцене. Бегство при Акциуме, пожалуй, ближе к эпическому событию, чем к драматически мотивированному поступку.
Знаменательно также, что сцена отчаяния Антония, у которого почва уходит из-под ног, дана не до решающего поступка, когда герой поставлен перед трагической дилеммой (как в стансах Сида у Гильена де Кастро или Корнеля), а после поступка. Антоний проклинает судьбу, но судьба эта, как в античном театре, еще «пластична». Она в объективном мире, а не в душе героя.
Такова же коллизия в «Юлии Цезаре» и в «Короле Лире», в «Макбете» и в «Тимоне Афинском».
В «Кориолане» борьба возникает в душе героя лишь в конце трагедии, в третьей сцене последнего акта, когда мать, жена и ребенок выходят к Кориолану, стоящему под стенами Рима. «Честь и сострадание в тебе столкнулись», – замечает Авфидий. Но к этому моменту судьба героя уже фактически свершилась. Душевная коллизия возникает тогда, когда герой уже обречен, и она только ускоряет его гибель. Наоборот, с нее начинается французская трагедия, и она составляет средоточие трагедии испанской.
Когда Дездемона, отвечая перед сенатом отцу, говорит, что «надвое распался долг ее» перед отцом и мужем, мы не предполагаем здесь никакой настоящей драматической борьбы. Героиня поступает, по ее словам, «как мать моя, с своим отцом расставшись», – повинуясь природе и обычаю со времен Адама и Евы. У других героев Шекспира душевной борьбы перед поступком не больше, чем у Дездемоны перед роковым ее решением бежать из дома отца.
В «Гамлете», который представляется с первого взгляда исключением из этого общего правила, по сути тот же тип цельного героического сознания. Ибо действие в этой трагедии строится не на коллизии «мстить или не мстить», но «быть или не быть», то есть на том, что стоит, казалось бы, в стороне от сюжетной линии и в стороне от возложенной тенью старого короля задачи, составляющей магистраль действия.
Подобно Отелло, Кориолану или Тимону, Гамлет – цельная, действенная натура. Шекспировский герой еще не знает позднейшего раздвоения между личным влечением и абстрактным долгом. Ему чужда поэтому и рефлектирующая нравственная борьба. Но протагонистам других трагедий Шекспира еще нужно узнать подлинное лицо мира, в котором они живут, им нужно узнать, что истинно и достойно . Это и страсть героя, и его долг одновременно. И так как мир вокруг трагического героя сложнее и противоречивее, чем в эпосе, он заблуждается, он ошибается. На трагическом заблуждении и основаны поступки героя, как и действие драмы, к концу которого герой прозревает; это прозрение совпадает с моментом его гибели.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

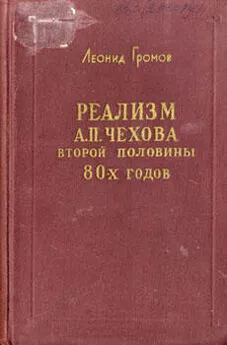
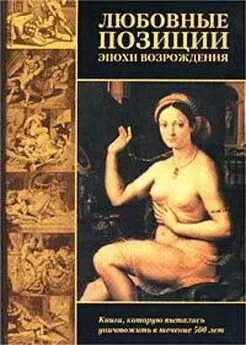


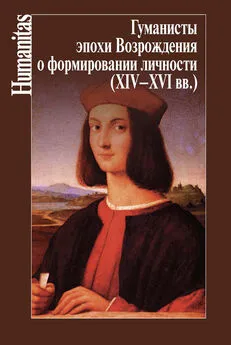
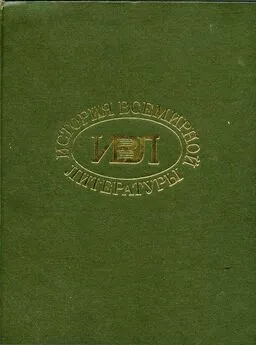
![Максим Осипов - Человек эпохи Возрождения [сборник]](/books/1078276/maksim-osipov-chelovek-epohi-vozrozhdeniya-sbornik.webp)