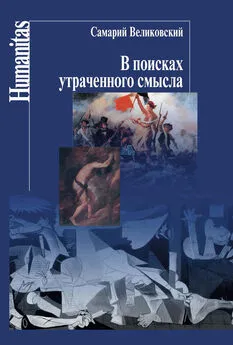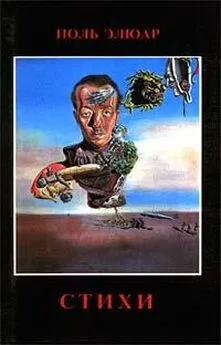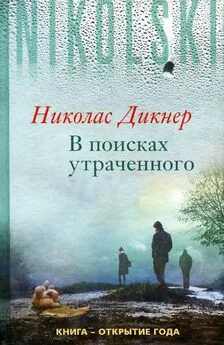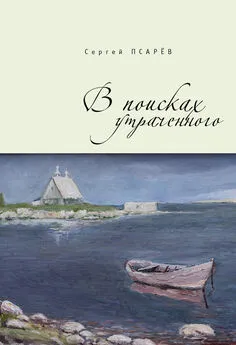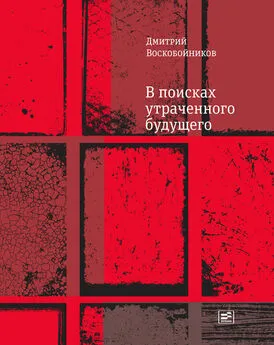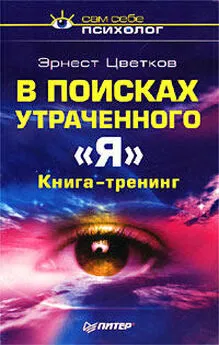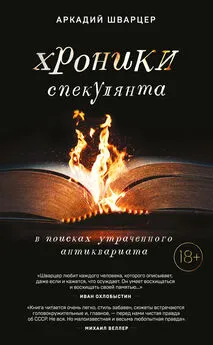Самарий Великовский - В поисках утраченного смысла
- Название:В поисках утраченного смысла
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-075-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Самарий Великовский - В поисках утраченного смысла краткое содержание
Самарий Великовский (1931–1990) – известный философ, культуролог, литературовед.
В книге прослежены судьбы гуманистического сознания в обстановке потрясений, переживаемых цивилизацией Запада в ХХ веке. На общем фоне состояния и развития философской мысли в Европе дан глубокий анализ творчества выдающихся мыслителей Франции – Мальро, Сартра, Камю и других мастеров слова, раскрывающий мировоззренческую сущность умонастроения трагического гуманизма, его двух исходных слагаемых – «смыслоутраты» и «смыслоискательства». Стержень этого анализа – нравственные искания личности в историческом потоке, их отражение во французской прозе, театре, лирике.
Многие страницы этой книги найдут отклик у сегодняшнего читателя, человека XXI века, который оказывается перед проблемами, бытийными и повседневными, этого нового времени.
Авторской манере письма свойствен свой, художественный стиль.
В поисках утраченного смысла - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Недоумевающая наивность, «святая простота» Мерсо выглядят при этом не столько по-детски безгрешными, сколько старчески усталыми. В его «изумленном» взгляде на вещи сквозит горькая умудренность души разочарованной, уже постигшей изжитость и тщету окружающей цивилизации. Непосредственность ребенка не присуща «постороннему» изначально, а есть более или менее обдуманно избранное орудие обороны против закосневшего в довольстве собой, туповато-хитрого в своем самообмане мещанского здравомыслия, против того, что у Сартра звалось «недобросовестным верованием» «существователей». Здесь-то, в скрытой надломленности скептического «нас не проведешь», проскальзывающего в голосе Камю, заложено коренное различие между вольтеровскими «простодушными», детищами раннебуржуазного просветительского гуманизма, и «посторонним» – «гуроном» гуманизма трагического, позднебуржуазной поры. Естественная «инакость» у Камю – достояние существа скорее пост-гражданского, чем до-гражданского.
«Заключив в скобки» и отодвинув от себя граждански-нравственные понятия своего общества как скорлупу предрассудков, Камю словно вышелушивает беспримесное телесное ядро «постороннего». Моральное сознание оттеснено у этого «просто человека» влечением к приятному. Все остальные побуждения и тем паче обязанности, коль скоро они не приносят непосредственного физического удовольствия и выходят за пределы элементарнейших потребностей во сне, еде, близости с женщиной, отдыхе, воспринимаются Мерсо как досадное бремя. Его не занимает продвижение по службе и возникающая возможность зажить жизнью более подвижной, богатой впечатлениями. Столь же равнодушен он к любви, браку, сыновним привязанностям, дружбе – для него все это пустые слова. Он испытывает желание обладать женщиной, его тянет к загорелой машинистке Марии с соблазнительной тугой грудью. Но он искренне обескуражен, когда она спрашивает, любит ли он ее. С ней можно купаться и спать, все прочее Мерсо не касается. Впрочем, он согласен даже жениться на ней, если ей этого хочется, – ведь ему-то совершенно безразлично, отчего же не сделать ей приятное, хотя ему супружество ровно ничего не добавит к наслаждению ее телом. Будь это другая женщина и заведи он с ней подобную случайную связь, он так же, не раздумывая, не отказал бы и ей и так же не ощутил бы никаких семейных уз. Жил же он бок о бок с матерью так, будто они едва знакомы: за весь день они не находили друг для друга двух-трех приветливых фраз. Отупляющая усталость и сожаления об утре, пропавшем для прогулки, – вот, пожалуй, и все, что угнетало его в богадельне, куда он приехал просидеть ночь у гроба матери и потом проводить траурный катафалк до кладбища.
По сути, у Мерсо есть лишь одно пристрастие – не то чтобы духовное, но созерцательное: когда он не испытывает ни жажды, ни голода, ни усталости и его не клонит ко сну, ему приносит неизъяснимую усладу приобщение к природе. Обычно погруженный в ленивую оторопь, мозг его работает нехотя и вяло, ощущения же всегда остры и свежи. Самый незначительный раздражитель повергает его в тягостную угнетенность или жгучее блаженство. И дома и в тюрьме он часами, не ведая скуки или усталости, упоенно следит за игрой солнечных лучей, переливами красок в небе, смутными шумами, запахами, колебаниями воздуха. Изысканно-точные слова, с помощью которых он передает увиденное, обнаруживают в этом тяжелодуме дар лирического живописца. К природе он, оказывается, открыт настолько же, насколько закрыт к обществу. Равнодушно «отсутствуя» среди близких, он каждой своей клеточкой присутствует в материальной вселенной.
И здесь он не сторонний зритель, а самозабвенный поклонник стихий – земли, моря, солнца. Солнце словно проникает в кровь Мерсо, завладевает всем его существом и превращает в загипнотизированного исполнителя неведомой космической воли. В тот роковой момент, когда он непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета и убил араба, он как раз и был во власти очередного солнечного наваждения. Судьям он этого втолковать не может, сколько ни бьется, – человек, по их представлениям, давно вырван из природного ряда и включен в ряд моральный, где превыше всего зависимость личности от себе подобных, а не от бездуховной материи. Для Мерсо, напротив, и правда, и добро, и благодать – в полном слиянии его малого тела с огромным телом вселенной. Все прочее – наносно и не важно. В преддверии казни, пережив при стычке со священником очистительный кризис и постигнув до конца обращенный к нему призыв судьбы, который прежде он смутно угадывал, приговоренный к смерти обретает покой по мере того, как «раскрывается навстречу нежному безразличию мира. Он так на меня похож, он мне как брат, и от этого я чувствую – я был счастлив, счастлив и сейчас». Именно верность своей плотской природе и всему родственному ей природному царству и сделала Мерсо чужаком в людском сообществе.
«Языческий» культ телесного, отчетливо проступающий в «Постороннем», составляет отличительную особенность Камю сравнительно с его старшими предшественниками по «смыслоутрате» – Мальро и Сартром. Рядом с Камю, ценителем первозданной природы, солнцепоклонником и певцом средиземноморского «полдня», Сартр – философ «второй природы», пришелец из набитых книгами кабинетов, прокуренных кафе Латинского квартала, университетских сборищ с их словопрениями. Увидевшая свет за три года до «Постороннего» «Тошнота» – тоже ведь записки «постороннего». Но совсем иного, чем Мерсо, при всей их близости в неприятии набора конформистских верований и добродетелей как заслонов от пугающего чувства своей случайности, бытийной затерянности и обреченности на свободу неприкаянных одиночек. Сартровский Рокантен – зябкий завсегдатай архивов и кафе, хилый, снедаемый тревогой и мельтешащими мыслями. Морская даль и свежий воздух рождают у него, привыкшего к душным помещениям, дурноту, природа рисуется его воспаленному уму месивом чего-то вязкого, липкого, зловеще-настороженного, глухого и давящего. Собственная плоть, не говоря о плоти других, ему противна, кажется ущербной. Сартр и Камю совпадают в том, что материальное, «тварное» для них после «смерти Бога» есть скопище беззаконного вещества – оно неупорядочено, лишено разумного стержня, устремленности, глубинного содержания и смысла. Но если Сартра бездуховно-пустая полнота сущего отвращает, то Камю привлекает – кажется возможным убежищем, спасительным лоном. «В глубине моего бунта дремало согласие», – роняет Камю, имея в виду звездные миги пьянящего причащения «яств земных». Уже эта парадоксальная amor fati (любовь к року) – это усмотрение «дома» для личности в том, что оценивается как хаос без хозяина, выдает «возвратные ожидания», с какими мысль Камю отправляется в свое путешествие, и предвещает будущие расхождения двух истолкователей «смыслоутраты».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: